 Раскулачивание и кулацкая ссылка
Раскулачивание и кулацкая ссылка
Кузнецов П,
Долгие десятилетия в советской историографии был наложен запрет на изложение, связанное с трагическими событиями раскулачивания и кулацкой ссылки. Писалось об этом либо очень мало и не истинно, либо не говорилось совсем ничего.
С начала «перестройки» и «гласности» ситуация поменялась коренным образом. В общество хлынул мощный поток исторической информации и «драконовских» мерах, используемых при раскулачивании, и о репрессиях чудовищных масштабов, и о искусственных «голодоморах» вызванных насильственной экспроприацией властью хлеба у крестьян.
Но к сожалению, от общественности остался сокрыт один аспект, который по сути является наиболее важным – нормативно-правовой. Он важен в силу того, что все трагические события, произошедшие в нашей стране в годы «великого перелома» имели формально-юридическое и нормативно-правовое обоснование.
Глава 1. Раскулачивание и кулацкая ссылка: историография и нормативно-правовой аспект
1.1. Постановка проблематики исследования
В конце 1920-х гг. наша страна вступила в эпоху, точное определение содержания которой до сих пор является предметом научных дискуссий. Диапазон дефиниций здесь широк от «чрезвычайщины» до «форсированной модернизации». Закрепившаяся в пропаганде, а затем и в общественном сознании нескольких поколений публицистическая формула происходивших событий, выраженная сталинским словосочетанием «Великий перелом», отражала одномерное восприятие радикальных изменений как факт необратимости социалистического строительства в СССР.
За рамками такого подхода оставались вопросы о методах и средствах форсированных социальных, экономических, политических, культурных преобразований, их последствиях, в т. ч. цене в человеческом измерении, которую общество заплатило, претворяя в жизнь планы и замыслы сталинского политического руководства.
В последние полтора десятилетия историками, философами, политологами, экономистами, публицистами сделано очень много для осмысления предпосылок, характера, движущих сил и итогов преобразований страны из нэповской в социалистическую.
Совершенно очевидно, что сначала приоритет отдавался изучению белых пятен в истории конца 1920-х - середины 1930-х гг. Репрессии, принуждение и насилие во всевозможных формах, введенные в ранг государственной политики, голод 1932-1933 гг. и другие социальные катастрофы и аномалии активно исследовались историками во всех регионах России. С середины 1990-х гг. эпицентром профессиональных интересов многих из них стали проблемы формирования и эволюции коммунистического режима.
Наиболее широко велись работы по реконструкции механизма разработки и принятия стратегических решений в различных сферах политики, экономики, культуры, религии и т. д. В последние годы в самостоятельное направление отечественной исторической науки выделилось изучение структур повседневности (быт, психология, мотивация индивидуального и группового поведения и т. п.). Попытки создания концептуально целостной модели эпохи «Великого перелома», периодически предпринимаемые отечественными учеными (Л. А. Гордон, Э.В. Клопов, А. Г. Вишневский, А. К. Соколов, О. В. Хлевнкж, И. В. Павлова и др.), равно как и перманентно вспыхивающие дискуссии о характере эпохи и отдельных ее сторонах свидетельствуют о том, что научный поиск продолжается (Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-40-е года. – М., 1989.; Вишневский А. Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. – М., 1998. Соколов А. К. Курс советской истории 1917-1940. – М., 1999; Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е года. – М., 1996.; Павлова И. В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. – Новосибирск, 2001. ).
Активное и заинтересованное участие в нем принимают теперь и зарубежные исследователи, имеющие несомненный опыт и плодотворные подходы к изучению указанной эпохи. Одна из предметных исследовательских областей, в которых взаимодействие западных и российских исследователей осуществляется в тесном контакте и с взаимной пользой, — история отечественного крестьянства, получившая отражение в процессах форсированной принудительной коллективизации и т. н. раскулачивания.
В рамках международного исследовательского проекта «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. 1927—1939», реализацией которого руководит один из крупнейших и авторитетных российских историков В.П. Данилов, коллективом историков и архивистов из России, США, Канады и Австралии завершается работа по подготовке 5-томного документального научного издания, которое не имеет аналогов по ширине охвата и тематическому разнообразию источников, вобравших в себя трагедию отечественного крестьянства (Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы в пяти томах. 1927-1939. – Т. 1: май 1927 – ноябрь 1929. – М., 1999; Т. 2.: ноябрь 1929 – декабрь 1930. – М., 2000; Т. 3.: конец 1930 – 1933. – М., 2001; Т. 4: 1934 – 1936. – М., 2002.).
Важнейшей составляющей процесса раскрестьянивания «по-социалистически» являлась ускоренная государственной политикой маргинализация той части крестьянских семей (хозяйств), которые, будучи объявленными «кулаками», подверглись экспроприации и высылке в спецпоселения для «трудового перевоспитания».
В 1990-е гг. появилось много исследовательских, публицистических, документальных публикаций, посвященных жизни и судьбам репрессированных крестьян, которые были превращены в спецпереселенцев, одну из самых массовых маргинальных групп сталинской эпохи. В их числе монографии Н. А. Ивницкого, Н. Я. Гущина, В. Я. Пашкова, документальные сборники, подготовленные историками и архивистами Карелии, Урала, Сибири и других регионов массовой крестьянской ссылки. Сказанное, однако, не дает оснований для того, чтобы считать тематику исчерпывающе раскрытой.
Напротив, именно благодаря тому исследовательскому «буму», который стимулировал изучение историками проблем государственного насилия и антикрестьянских репрессий конца 1920-1930-х гг., были поставлены и стали активно изучаться такие неисчерпаемые, «бездонные» темы, как взаимоотношения власти и крестьянства в эпохи войн, революций и террора; формы, методы и масштабы крестьянского протеста и сопротивления государственному террору; природа и функционирование системы принудительного труда; мотивация поведения людей в условиях несвободы и т. д.
Наша исследовательская позиция зиждется на том, что при анализе всех названных выше тем, составляющих предметное поле истории возникновения и эволюции т. н. кулацкой (фактически крестьянской) ссылки на поселение в 1930-е — первой половине 1950-х гг., необходимо максимально полно и вместе с тем корректно использовать подходы и наработки тех зарубежных и отечественных историков, кто изучал систему государственных репрессий, механизмы принятия сталинским режимом политических решений, структуры повседневности сталинской эпохи.
Урал, Западная Сибирь, Северный край в 1930-е гг. явились регионами, где дислоцировались многочисленные комендатуры спецпереселенцев. Хронологические границы исследования — 1930-е гг. — позволяют рассмотреть в динамике формирование и эволюцию указанной территориальной системы крестьянских спецпоселений.
1.2. Означенная проблематика в новейшей отечественной историографии
История отечественного крестьянства накануне и в период коллективизации является той областью изучения постреволюционного российского общества, в которой наиболее рельефно отразились сильные и слабые стороны, успехи и неудачи процесса познания в последнее десятилетие. Очевидно, что среди всех элементов классической триады, составлявшей основу социальной структуры советского общества, именно проблемы, касающиеся судеб крестьянства, дав простор публицистическим рассуждениям, а затем и профессиональным историческим поискам, в общественном сознании выдвинулись на передний план.
Последовавшее за этим переосмысление прежних исследовательских схем и оценок в отечественном крестьяноведении было более глубоким, чем в изучении рабочего класса или интеллигенции. В одних случаях скачкообразно, в других плавно происходил пересмотр специалистами-аграрниками устоявшихся, десятилетиями незыблемых, исторических построений.
Настоящее время можно считать своеобразным переходным периодом в развитии указанной предметной области (крестьянство накануне и в эпоху «Великого перелома»). Разрушительная фаза поисков в целом завершается, однако, позитивная, конструктивная работа еще не дала сколько-нибудь значительных результатов. Появление ряда публикаций отчетливо выраженного концептуального характера, принадлежащих авторитетным ученым-аграрникам (Н. Я. Гущин, В. П. Данилов, И. Е. Зеленин, Н.А. Ивницкий и др.) (Гущин Н. Я. «Раскулачивание в Сибири (1928-1934 гг.): методы, этапы, социально-экономические и демографические последствия. – Новосибирск, 1996; Данилов В. П. Предисловие. // Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 – весна 1931 г. – Новосибирск, 1992.; Зеленин Е. И. «Революция сверху»: завершение и трагические последствия. // Вопросы истории. – 1994. - № 10.; Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов.). – М., 1994.), способствовало всеобщему признанию коллективизации как насильственной и принудительной, а «ликвидации кулачества» как трагического акта раскрестьянивания.
Начался этап осмысления причин хода и последствий отмеченных выше процессов. В центре внимания исследователей вполне логично оказались проблемы изучения насилия партийно-государственной машины над деревней, депортации крестьянства, голода 1932—1933 гг. и др. В первой половине 1990-х гг. особое значение приобрело экстенсивное вовлечение в научный оборот источников из ранее закрытых для исследователей фондов бывших партийных, государственных и ведомственных архивов.
Вслед за первыми журнальными публикациями московского историка В.Н. Земскова вышли в свет сборники документов и материалов, отразившие историю депортации крестьянства и формирования сети спецпоселений в тех регионах, в которые по преимуществу направлялись высланные крестьяне (Земсков В. Н. Спецпереселенцы. // СОЦИС. – 1990. - № 11; Он же: «Кулацкая ссылка в 30-е годы. // Там же. – 1991. - № 10.).
Появились аналитические публикации, в которых рассмотрены разные стороны существования такой трагической категории, как спецпереселенцы. Необходимо признать несомненный вклад в изучение данной проблемы В.Н. Земскова. Его усилиями в научный оборот был вовлечен огромный статистический материал, позволивший проследить изменения в численности, составе и размещении «кулацкой ссылки» за весь период ее существования (Земсков В. Н. Судьба «кулацкой ссылки» (1930-)-1954). // Отечественная история. — 1994. - № 1.). Ход экспроприации и высылка крестьянства на Урале получили освещение в публикациях курганского историка И. Е. Плотникова (Плотников И. Е. Как ликвидировали кулачество на Урале // Отечественная история. — 1993. - № 4; Он же: Сплошная коллективизация и раскулачивание в Зауралье (ма¬териалы по истории Курганской области). - Курган, 1995.). На фоне возрастающего количества публикаций, посвященных истории крестьянства на рубеже 1920—1930-х гг., все более насущной становится необходимость в серьезном осмыслении ключевых проблем теоретического и конкретно-исторического характера. Среди них следует назвать прежде всего проблему выработки понятийного аппарата, который адекватно отразил бы исторические реалии эпохи, затем проблему противоречий, проявившихся при освещении истории спецпереселенцев.
Важность пересмотра системы категорий, сложившейся в советской историографии крестьянства, очевидна. Однако и опытные, и начинающие исследователи нередко действуют в соответствии со сложившимися ранее стереотипами, без каких-либо оговорок пользуются терминами эпохи «Великого перелома» — раскулачивание, бывшие кулаки и т. д.
На этом фоне не случайно появление «гибридных» понятий: например, уральские историки сборнику документов дали название «Раскулаченные спецпереселенцы на Урале» (Ныне никому из исследователей не придет в голову пользоваться термином «враг народа» применительно к жертвам «Большого террора». Однако и сегодня, как и в сталинскую эпоху, многие с легкостью продолжают называть репрессии в дерев¬не раскулачиванием. Более осторожную и, на наш взгляд, обоснованную позицию заняли в данном вопросе В.Н. Земсков (используя термин «кулацкая ссылка», он предусмотрительно его закавычивает), а также Н.Я. Гущин (в своих последних публикациях он закавычивал термины «кулак», «раскулачивание»).).
Сказанное выше еще раз подчеркивает переходное состояние современного отечественного крестьяноведения. Однако до бесконечности долго пользоваться методом закавычивания нельзя. В качестве базовой категории необходимо использовать, по нашему мнению, понятие «раскрестьянивание», поскольку то, что традиционно именовалось «ликвидацией кулачества», «раскулачиванием» и т. д., являлось ничем иным, как самой острой и драматической стадией принудительного раскрестьянивания (здесь можно провести определенную аналогию с политикой властей по расказачиванию).
Представляется бесспорным, что в ходе форсированной и насильственной по своей сути и методам коллективизации, разорению и высылке подверглись значительные массы крестьянства, не имевшие подчас ничего общего с наиболее зажиточным слоем деревни. В ходе «Великого перелома» крестьянство в целом утратило экономическую самостоятельность и независимость от государства, а подвергшиеся депортации — личные права и свободы. Таким образом, правомерно было бы заменить термины «самораскулачивание» на «самораскрестьянивание», а «раскулаченные» — на «репрессированные крестьяне (крестьянские семьи)» и т. д.
Столь же трудно происходит отказ от тезиса советской историографии о «трудовом перевоспитании бывших кулаков». Следует отметить необоснованность употребления словосочетания «бывший кулак» — ведь после экспроприации своего имущества зажиточный крестьянин тотчас переставал быть «кулаком», между тем термин «кулак-спецпереселенец (трудпоселенец)» сохранялся в политической и карательной лексике в течение всего периода существования сталинского режима.
Рассматриваемая работа, хотя издана не в центре и имеет небольшой тираж, заслуживает пристального внимания не только со стороны узкого круга специалистов, но и историографов вообще, поскольку в ней нашли рельефное отражение как позитивные сдвиги, так и вполне типичные для исследований отечественной истории советского периода противоречия и издержки.
До 1930 г. было отмечено массовое проявление феномена «самораскулачивания». Что касается дискуссии о том, когда прекратились массовые депортации крестьянства (прежде всего российского) и высылка из деревни приобрела ограниченный, точечный характер, то в ней нам кажется обоснованной позиция известного историка И. Е. Зеленина, считающего рубежом вторую половину 1933 г.
Версия о «новой волне раскулачивания» в 1937-1938 гг. как составной части «Большого террора» вообще не обсуждается. Не ясно также, насколько точно на основе карательной статистики можно выделить «кулацкую» составляющую из этнических депортаций во второй половине 1930 — начале 1950-х гг.
Долгое время в новейшей историографии оказывался «затемненным» реальный статус спецпереселенцев.
В данном случае явно недостаточно констатировать применение к крестьянству такого вида репрессий, как высылка (или ссылка). То, что происходило в деревне с 1929 г., являлось мерой экстраординарной и не имевшей ранее в силу ряда обстоятельств аналогов в карательной практике.
Это была административная (внесудебная) ссылка, но не обычная, поскольку носила семейный характер (репрессии касались всех — от младенцев до стариков); она осуществлялась в соединении с принудительными работами (ранее это была форма только судебных репрессий) и была бессрочной (ранее ни один вид высылки или ссылки не назначался на срок более десяти лет).
Имея такой симбиоз отступлений даже от собственного законодательства, сталинский режим вел в отношении спецперселенцев «игру без правил» (точнее, правила менялись неоднократно). В контексте сказанного следует не довольствоваться абстрактной формулой «правовое положение спецпереселенцев», а определять совершенно конкретный статус различных групп и категорий внутри спецпереселенцев через соотношение прав и обязанностей, которыми они наделялись властями. Совершенно очевидно, что это соотношение было особым у молодежи или у взрослых «ударников» и т. д.
Приходится констатировать легкость, с какой публицистические подходы, схемы и оценки переходят в исторические исследования, и без того, как показано выше, несвободные от прежних идеологических и историографических наслоений и стереотипов. С легкой руки публицистов конца 1980-х гг. спецпереселенцы стали синонимом репрессированного крестьянства, между этими понятиями был поставлен знак равенства. В результате сложнейшая проблема формирования и эволюции такой категории сталинской эпохи, как спецпереселенцы, подверглись предельно упрощенной трактовке. Между тем даже простой перечень карательной лексики 1930-1940-х гг. свидетельствует об обратном.
Так, на начальной стадии экспроприации и депортации крестьянских хозяйств (февраль-июнь 1930 г.) в делопроизводственной документации партийных, советских и карательных органов (ОГПУ и НКВД РСФСР) использовались термины «выселенные (выселяемые) кулаки (2-я категория)» и «расселенные (расселяемые) кулаки (3-я категория)», суть различий между которыми заключалась первоначально в том, что причисленные ко 2-й категории подлежали депортации за пределы округа или районы проживания, а к 3-й — расселению на специально отведенной территории внутри районов проживания.
Летом 1930 г. в оборот вводится ставший затем привычным термин «спецпереселенцы», распространившийся на существовавшие до этого категории репрессированных сельских жителей. Так было до весны—лета 1933 г., когда произошла радикальная реформа карательной системы, в ходе которой спецпоселения стали именоваться трудпоселениями (соответственно, спецссылка трудссылкой, а спецпоселенцы трудпоселенцами). С этого времени трудссылка утратила преимущественно крестьянский облик, т. к. трудпоселки оказались местом, куда направлялись деклассированные городские элементы, выявленные во время «чисток» крупных и режимных городов, а также рецидивисты, определенные в ссылку на поселение в ходе «разгрузки» мест заключения (колоний и тюрем) (Постановление СНК об организации трудовых поселений ОГПУ № 775/146с от 20 апреля 1933 г. см.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-1938. — С. 15-22.).
Накануне и в годы войны существовало несколько категорий лиц, подвергшихся репрессиям в форме ссылки на поселение: спецпереселенцы-немцы, спецпереселенцы-ссыльные из Молдавии и Прибалтики, ссыльнопоселенцы и др. В 1944 г. все они стали именоваться «спецпереселенцы», сохраняя при этом индикаторы-дополнения: трудпоселенцы получили обозначение «спецпереселенцы-бывшие кулаки» (Приказ НКВД СССР № 0049 от 12 января 1944 г. о реорганизации системы трудовых и специальных поселений см.: Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939-1945. – С. 116.). Так продолжалось до 1954 г., пока «кулацкая ссылка» не была окончательно отменена. Почти за четверть века категория «спецпереселенцев-трудпоселенцев» вобрала в себя много самых разных социальных слоев и групп, среди которых крестьянский элемент имел тенденцию к постоянному уменьшению.
Если обратиться к начальной фазе массовых репрессий эпохи «Великого перелома» в деревне, то нетрудно заметить, что группы «кулаков», а следовательно и спецпереселенцев, отнюдь не являлись стопроцентно крестьянскими. В ходе поспешно проводимой зимой—весной 1930 г. депортации списки подлежащих высылке «кулаков» нередко формировались на основе имевшихся у местных органов списков лиц, лишенных избирательных прав, «лишенцев». В это число попадали представители практически всех социальных групп сельского населения - ремесленники, служащие, священнослужители и т. д.
Несмотря на жесткие инструкции карательным органам «отсекать» при высылке от крестьянской массы т. н. бывших - священников, офицеров и т. д., их выявляли в ходе проверок спецпереселенцев на поселении.
Кроме того, принцип высылки «кулацких» семей в полном составе неизбежно влек за собой появление в спецпоселках членов семей, имевших, в частности, неземледельческие занятия и профессии. Не случайно, инфраструктура спецпоселков (медико-санитарная, культурно-просветительная и т. д.) во многом была укомплектована (низшее и среднее звено) персоналом из числа самих спецпереселенцев. Так, на начало 1932 г. они составляли свыше 40 % педагогического состава школ в спецпоселках Урала. В Западной Сибири их доля среди учителей в комендатурах достигала двух третей (Раскулаченные спецпереселенцы на Урале. 1930—1936. - С. 20; Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 — начало 1933 г. — С. 326.).
Естественно, допущение спецпереселенцев к исполнению функций вспомогательного и тем более основного персонала в школах, библиотеках, больницах требовало наличия у них определенного уровня образования и квалификации, приобретенного до высылки. Для части спецпереселенческой молодежи открывались возможности пройти краткосрочные курсы подготовки работников сфер медицины, экономики и культуры и вернуться затем для работы в комендатурах.
Что касается представителей исполнительных звеньев аппарата комендатур (секретари, экономисты, статистики и т. д.), то они в значительной мере комплектовались также за счет «проверенных» спецпереселенцев (в сентябре 1933 г. к ним относилось 480 из 971 сотрудника Нарымских комендатур) (Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933 — 1938. — С. 245.). В начале 1930-х гг. это был, хотя и немногочисленный, но постоянно действовавший канал «размывания» преимущественно крестьянского состава спецпереселенцев.
Главными же факторами неизбежно происходившего в условиях спецпоселений процесса раскрестьянивания становились государственное распределение и закрепление трудоспособных спецпереселенцев в качестве рабочей силы в несельскохозяйственных секторах экономики. Уже на ранних стадиях формирования системы спец(труд)поселений властями предусматривалось использование труда репрессированных сельских жителей в таких отраслях, как строительство, транспорт, промышленность и т. д. Безусловно, в привлечении труда спецпереселенцев были региональные особенности.
Так, на Урале в начале 1932 г. за промышленными и строительными организациями числилось 116 тыс. высланных семей, преимущественно крестьянских, и лишь около 15 тыс. было закреплено за сельхозколониями27. По данным СибЛАГа за сентябрь 1931 г., в Западной Сибири в комендатурах сельскохозяйственного профиля числилось 41 тыс. семей спецпереселенцев из 65 тыс. семей, размещенных в комендатурах региона.
Таким образом, почти треть трудоспособного населения спецпоселков на данной территории уже с первых месяцев неволи имела неземледельческую специализацию (работа в леспромхозах, шахтах, на приисках, Кузнецкстрое и т. д.) (Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 — начало 1933 г. — С. 287-288.). Накануне войны уже не более трети трудпоселенцев было занято в сельском хозяйстве (в т. н. неуставных сельхозартелях, совхозах и др.) (Земсков В. Н. Судьба «кулацкой ссылки». — С. 121.). По численности трудоспособные поселенцы, занятые в лесной и угольной отраслях промышленности, сравнялись с членами сельхозартелей трудпоселенцев (Там же. - С. 127.).

Практически любому из исследователей массовых антикрестьянских репрессий, предпринятых в начале 1930-х гг. государством при поддержке «снизу», приходилось выстраивать иерархию причин, вызвавших данное явление. Большинство историков в качестве исходной причины выделяет экономическое поведение основной массы крестьян (особенно зажиточных хозяйств), которые с момента кризиса хлебозаготовок 1927/1928 хоз. г. проявляли устойчивое нежелание подчиниться проводимой государством политике неэквивалентного обмена между городом и деревней и сопротивлялись внеэкономическим методам изъятия произведенной ими продукции вначале пассивно, сокращая посевы, деля хозяйства, распродавая имущество (фактическое «самораскулачивание»), затем активно терроризируя сельских активистов и т. д. (Славко Т.И. Раскулачивание // ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. - Франкфурт/Майн; М, 1999. — С. 130—131.)
Другая причина, не менее существенная, но возникшая позже, имеет политическую природу: с началом массовой форсированной и принудительной коллективизации лозунг «ликвидации кулачества» был призван ускорить создание коллективных хозяйств. Изоляция (аресты, высылка) одной части крестьянства была призвана продемонстрировать другой ее части бесперспективность сопротивления.
Кроме того, массовое привлечение сельских низов к участию в экспроприации и высылке зажиточного слоя крестьянства вносило раскол в деревню, делало «низы» союзниками и участниками репрессивной политики «верхов». Побочная причина, сопровождавшая спланированное насилие над крестьянством в начале 1930-х гг., была связана с экономической составляющей экспроприации: конфискованное у арестованных и высланных крестьян имущество должно было стать важной частью неделимых фондов коллективных хозяйств (Там же. - С. 134-135.).
Во второй половине 1930 г. и особенно в 1931 г. основой массовой депортации исследователи называют экономическую причину: контрольные цифры по высылке жестко увязывались с потребностями тех или иных наркоматов и ведомств в массовом и «дешевом» принудительном труде спецпереселенцев. Политические основания для репрессий в деревне отошли на второй план.
Нарисованная выше схема чередования в антикрестьянской репрессивной политике в конце 1920 — начале 1930-х гг. политических и экономических мотивов и оснований в целом возражений не вызывает. Вместе с тем выявляется очевидная необходимость в более детальном выяснении действия механизмов согласования интересов различных групп внутри не только институтов власти, но и самого крестьянства, и - шире - сельского населения в обстановке массовых государственных репрессий.
Существует, хотя и не совсем четко оформленная, пришедшая в сферу исследований из публицистики, точка зрения о том, что массовые репрессии в деревне, хорошо продуманные и спланированные, выражали симбиоз интересов двух могущественных группировок — сталинского партийно-государственного руководства и карательной машины в лице ОГПУ НКВД. Цель первой при запуске механизма «раскулачивания» состояла в уничтожении остатков оппозиции в партии и обществе, второй - в упрочении своего особого статуса в советской политической системе.
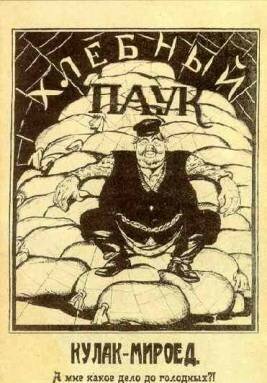
Исследователи предлагают нетривиальные оценки и интерпретации конкретно-исторического процесса начальной стадии трагедии отечественной деревни. Другое дело, выдерживают ли критику подобные трактовки самих приоритетов партийно-государственной политики в деревне накануне и в начале коллективизации, а также результатов практической их реализации.
Сколько-нибудь серьезных оснований для такого рода новаций, на наш взгляд, нет. В историографии даже в т. н. застойные десятилетия бегство и отток крестьян из колхозов объяснялись авантюризмом политики партийных верхов, широким массовым протестом и сопротивлением крестьян этой политике.
Можно даже согласиться с тем, что в определенные моменты (февраль-март 1930 г. и весна 1931 г.) карательная политика задавала темпы, «подхлестывая» и ускоряя коллективизацию. Однако и экспроприацию единоличных хозяйств, и создание крупного общественного производства в деревне правомерно рассматривать в контексте целенаправленно осуществляемой политики раскрестьянивания, разными составными частями, гранями которой и выступали коллективизация и «раскулачивание».
Особенно показательным в рамках указанной политики явилась судьба той части репрессированного крестьянства, которая подверглась маргинализации, т. е. вытеснению за грани формально правового советского общества. Спецпереселенцы насильственным путем были переструктурированы, превращены в универсальную рабочую силу для нужд сталинской («социалистической») модернизации. Большая их часть к концу 1930-х гг. стала «трудоиспользоваться» в несельскохозяйственных отраслях экономики (промышленность, строительство и т. д.).
Из работ последних лет, в которых анализируются проблемы массовых антикрестьянских репрессий и, как следствие последних, возникновение и эволюция категории крестьян-спецпереселенцев, следует выделить две монографии Н. А. Ивницкого (Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). — М., 1994.).
В первой, вышедшей в 1994 г., автор посвятил данной теме четвертую, заключительную главу «Судьба раскулаченных. Спецпереселенцы». В исследовании 2000 г., анализируя разработку и реализацию партийно-государственными органами репрессивной политики в деревне в конце 1920-х — начале 1930-х гг., Н. А. Ивницкий затрагивает также различные аспекты депортации крестьянства и справедливо отмечает, что тема спецпоселения заслуживает особого рассмотрения.
Несомненной заслугой автора следует считать выявление и введение в научный оборот весьма значительного количества источников делопроизводства высших звеньев органов сталинской власти и управления (в монографии 1994 г. это материалы и документы фондов бывшего архива Политбюро, а в работе 2000 г. к ним добавились источники из фонда центрального аппарата ОГПУ—НКВД). Благодаря этому появилась возможность реконструировать механизм выработки, а в ряде случаев и значительной корректировки уже принятых ключевых решений сталинского руководства в отношении репрессированного крестьянства.
Вместе с тем нельзя не отметить, что изложение такой ценной фактической информации, как решения директивных органов или отчеты по их реализации, отнюдь не снимает проблемы исторической интерпретации. И здесь ряд авторских оценок носит далеко не бесспорный характер. В частности, Н. А. Ивницкий отмечает, что решения Политбюро в части массовых репрессий в деревне были противоречивы, неоднократно нарушались или пересматривались тем же самым высшим властным органом (Ивницкий Н. А. Коллективизация... — С. 187-188; Репрессивная политика Советской власти... — С. 175.).
Говоря о партийно-правительственных постановлениях по устройству и использованию труда спецпереселенцев, автор указывает, что «их было достаточно много, но ни одно из них не было выполнено». Он пишет: «Возникает вопрос, почему не выполнялись решения Политбюро — всевластного органа, которому были подчинены и подотчетны все партийно-государственные структуры, не исключая ЦИК и СНК СССР, наркоматы и ведомства, суд и прокуратуру? Объяснение может быть одно: Политбюро не было заинтересовано в выполнении своих решений, а принимало оно их, скорее, чтобы создать видимость заботы о спецпереселенцах, как это было весной 1930 г. в связи с перегибами в коллективизации. Виновные в невыполнении решений ЦК не несли никакого наказания, если не считать ничего не значащих "указать" и "обратить внимание"» (Ивницкий Н. А. Коллективизация — С. 235-236.).
Вряд ли следует согласиться с Н. А. Ивницким в отношении данной им трактовки как мотивов, которыми руководствовались Сталин и его окружение при принятии решений о спецпереселенцах, так и причин невыполнения этих решений. Во-первых, Политбюро было заинтересовано и в принятии, и в осуществлении своих решений о «рациональном» размещении репрессированного крестьянства и утилизации его труда.
Само количество такого рода постановлений, а в 1931—1933 гг. их насчитывалось несколько десятков, свидетельствовало о том, что Политбюро считало решение проблемы весьма значимой (естественно, в своем, корпоративном понимании). Во-вторых, некорректна здесь и предлагаемая Н.А. Ивницким параллель с ситуацией весны 1930 г., когда власть действительно вела игру с крестьянством — публично осуждая перегибы, она стремилась «умиротворить» деревню. Среди относящихся к 1931—1933 гг. решений Политбюро о спецпереселенцах, которые принимались затем в т. н. советском порядке как постановления ЦИК или СНК СССР, не было ни одного публичного (открытого), за исключением июльского (1931 г.), касающегося перспектив восстановления спецпереселенцев в гражданских правах через пять лет пребывания на поселении. Все они носили закрытый, секретный характер и подлежали безусловному исполнению.
По мнению Н. А. Ивницкого, ни одно из директивных указаний Политбюро в отношении спецпереселенцев «не было выполнено». С этим суждением нельзя согласиться, точнее было бы считать, что большинство постановлений не выполнялось в полном объеме и в намечаемые сроки.
Безусловно, имели место и принимавшиеся волюнтаристским способом, а потому «провальные» в процессе их реализации решения, одним из которых, в частности, стало апрельское (1933 г.) постановление Политбюро (оформленное как постановление СНК СССР) «Об организации трудовых поселений ОГПУ», впоследствии несколько раз корректировавшееся. Однако и в урезанном до минимума виде указанное директивное решение сыграло роль в санкционированной Политбюро реорганизации системы спецпоселений. Иногда само Политбюро не просто корректировало, но и отменяло принятые ранее отдельные пункты постановлений или постановления в целом.
Так, 16 мая 1932 г. Политбюро отменило свое решение от 4 мая о выселении 38 тыс. крестьянских хозяйств и рекомендовало ОГПУ производить в деревне «индивидуальные аресты». Сложившийся порядок выработки и принятия на Политбюро решений предполагал достаточно сложную процедуру, в которой основную нагрузку несла, как правило, инициирующая постановление сторона (наркомат, ведомство) либо создаваемая Политбюро комиссия (обычно межведомственная по составу).

В 1931-1932 гг. такие функции выполняла «комиссия т. Андреева». Именно она несла полную ответственность за качество и исполняемость принимавшихся Политбюро решений о спецпереселенцах. Благодаря деятельности последней и ее делопроизводству сегодня исследователи имеют возможность размышлять о политике «верхов» в отношении репрессированного крестьянства, судить о состоянии исполнительской дисциплины.
Подчеркнем, что речь, безусловно, идет не об апологетике сталинского режима и оправдании его антикрестьянской политики, а о необходимости преодоления тех или иных упрощенных или одномерных трактовок событий.
Н. А. Ивницкий, затрагивая аспект результативности труда спецпереселенцев, пишет: «Заметим, что большинство неуставных артелей добивались более высоких производственных результатов, чем соседние местные колхозы. В этом сказались хозяйственные навыки и мастерство бывших кулаков и зажиточных крестьян, а не трудовое перевоспитание, как это утверждалось в советской историографии, в том числе и в нашей монографии.
Это признавалось и руководством ОГПУ и НКВД, но объяснялось не результатом умения и самоотверженного труда ссыльных, а "происками врагов народа", находившихся у руководства "кулацкой ссылкой" (Коган, Молчанов, Берман, Плинер и др.), которые якобы ставили спецпереселенцев в "привилегированное положение", освобождали спецпоселки от госпоставок, налогов и сборов и списывали ссуды "уже тогда, когда трудпоселки не только хозяйственно окрепли, но и по своему хозяйственному уровню стояли выше окружающих колхозов" — говорилось в одной из записок НКВД в ЦК ВКП(б)
Нет необходимости комментировать этот документ» (Ивницкий Н. А. Коллективизация... — С. 241-242.).
Представляется, однако, что подобное объяснение мотивации и результатов хозяйствования спецпереселенцев главным образом навыками и опытом репрессированных крестьян для понимания проблемы дает не больше, чем прежний тезис о главенстве фактора «трудового перевоспитания кулачества».
Безусловно, у спецпереселенцев имелась повышенная мотивация к производительному труду как средству выживания в условиях несвободы. Тем не менее, ввиду тенденциозности процитированной выше записки НКВД не следует игнорировать те специфические («привилегированные» условия хозяйственной деятельности, которые были у неуставных артелей: периодически проводившееся по ходатайству органов НКВД списание долгов и ссуд, лонгирование сроков освобождения от различных госпоставок и сборов (для уставных артелей порядок взимания налогов, взыскания долгов и т. д. был куда более жестким). Очевидна необходимость учета действия всех значимых факторов, влиявших на принудительный труд в спецпоселках.
В рамках сравнительно небольшого обзора можно определить, таким образом, лишь наиболее отчетливо проявившиеся сегодня тенденции в изучении проблем истории репрессированного крестьянства. Приходится констатировать, что, несмотря на обилие и разнообразие публикаций, пока нет достаточных оснований считать эту проблему не только исчерпанной, но даже в достаточной мере сложившейся.
Прорыв в методологической, концептуальной сферах, а также в накоплении источниковой базы, происшедший в начале 1990-х гг., оборачивается ныне если не спадом, то определенного рода стагнацией, признаком чего служат повторение апробированных в прошлом схем и подходов зрелыми, сложившимися исследователями, а также копирование их молодыми историками. Подходы маститых ученых оказалось легче тиражировать, накладывая на местные материалы и документы, зачастую даже без должной адаптации к региональным условиям.
Была по сути свернута и осталась безрезультатной принципиальная дискуссия, о человеческой цене, жертвах коллективизации и о том, насколько официальная карательная статистика оказалась в состоянии адекватно отразить социальную катастрофу в деревне, в т. ч. масштабы самоликвидации и бегства крестьянских хозяйств и семей, размеры смертности и побегов в ходе массовой высылки, в дороге и т.д., открытая в 1990-е гг.. Эти не зафиксированные традиционной статистикой потери крестьянского населения в конце 1920 - начале 1930-х гг. требуют изучения с привлечением проверенных методов исторической демографии, экспертных оценок, основанных на анализе отдельных сельских поселений или районов.
Именно подобный уровень микроисследования может вскрыть механизмы реального поведения местной власти и крестьянства в условиях, когда сопротивление и протест последнего существенно корректировал процессы практической реализации принимаемых властных решений. Зачастую изучение событий на уровнях поселение — сельсовет — район способно дать не меньше информации, чем обобщенные и стандартизированные данные более высокого порядка регион республика страна.
Историками недооценен и потому не используется в должной мере такой массовый источник, как реабилитационные дела репрессированных крестьянских семей. Эти дела, даже с учетом времени и специфики их создания, дают ценную и не содержащуюся более нигде информацию не только о судьбах отдельных людей или крестьянских семей, но и о том, как целое поколение (главным образом дети «раскулаченных») описывает и оценивает происшедшее с ними, да и со страной в целом.
1.3. Нормативно-правовой аспект
Практически во всех в значительном количестве вышедших по данной проблеме публикациях (статьи, монографии, сборники документов) обойден вниманием принципиальный вопрос о возникновении, бытовании и эволюции ключевых терминов, которыми власть оперировала, когда речь шла о репрессированном и высланном в начале 1930-х гг. крестьянстве.
Между тем очевидно, что за появлением одних терминов и заменой их другими стояли совершенно определенные ситуационные либо стратегические изменения политики директивных органов в отношении репрессированных крестьян.
Данный анализ было бы целесообразно предварить обзором состояния исследовательской рефлексии в 1960—1980-х гг., когда крестьянская ссылка для советской исторической науки стала, наконец, предметом изучения. Терминологически процесс описывался таким образом, чтобы завуалировать карательный характер сталинской антикрестьянской политики. Речь шла прежде всего о «переселении» и «трудовом перевоспитании бывших кулаков».
Известный исследователь советской переселенческой политики Н. И. Платунов писал об этом так: «Что касается переселенческой политики Советской власти в связи с ликвидацией кулачества как класса, то она не выражала закономерности миграционных процессов в СССР. Переселение кулаков было отклонением от основ переселенческой политики Советской власти, вызванным чрезвычайными обстоятельствами, ее единоличным актом по удалению антисоветски настроенного кулачества» (Платунов Н.И. Переселенческая политика Советского государства и ее осуществление в СССР (1917 — июнь 1941 гг.). — Томск, 1976. — С. 213.).
В дальнейшем автор использует понятие «переселенные кулаки», а в нем вслед за источниками сталинской эпохи выделяет «кулаков» второй («выселенные») и третьей («расселенные») категорий. Он же констатирует, что деление «кулаков на три категории было обязательным для руководства и исполнения только на 1930 год», а в следующем, 1931-м, году «деления на категории вообще не производилось — выселению подлежали все хозяйства, которые признавались кулаками» (Там же. — С. 221.).
В 1970-1980-х гг. известный историк-аграрник Н.Я. Гущин в своих работах, посвященных «трудовому перевоспитанию бывших кулаков», пользовался выхолощенным понятием «переселенцы». Влияние на исследования тех лет не только цензуры, но и самоцензуры историков проявлялось, например, в том, что при воспроизведении в публикациях заголовков документов термин «спецпереселенцы» заменялся на «переселенцы» (Гущин Н. Я., Ильиных В. А. Классовая борьба в сибирской деревне. 1920-е — середина 1930-х гг. — Новосибирск, 1987. — С. 271.), а Нарымский край назывался краем ссылки (имелась в виду царская ссылка), который «к концу 30-х гг. превратился в развитый район социалистического строительства» (Там же. - С. 275.). В таком межеумочном состоянии и застыла отечественная историография проблемы: крестьянская ссылка на поселение квалифицировалась как некая специфическая разновидность переселения.
Если под данным углом зрения обратиться к новейшим исследованиям, то нетрудно установить, что историки не столь уж значительно продвинулись вперед. Общим местом является признание «выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение» (Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» // Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. — М., 1993. — С. 194.) одной из мер политических репрессий.
Одновременно с этим спецпереселения крестьянства рассматриваются как разновидность принудительных переселений (миграций). Однако пока нет объяснения того, каким образом в сталинскую эпоху произошло соединение и фактическое слияние ссылки как карательной меры с миграционно-хозяйственными процессами. Определенные возможности для этого дает анализ формирования и динамики карательной лексики начала 1930-х гг.
Напомним, что первичным основанием для деления репрессированного крестьянства («кулачества») на группы («категории») стала директива (постановление) Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» (См.: Адибеков Г.М. Спецпереселенцы — жертвы «сплошной коллективизации» // Исторический архив. — 1994. — № 4. — С. 147-152.).
К первой категории относился «контрреволюционный кулацкий актив», ко второй те, которые «подлежат высылке в отдаленные местности Союза ССР и в пределах данного края в отдаленные районы края», к третьей - «оставляемые в пределах района кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных хозяйств участках» (Там же. - С. -148.).
Обращает внимание то, что уже в данном ключевом документе вводятся и используются следующие понятия, заменяющие упомянутые категории: «арестованные» (первая), «высылаемые» (вторая), «расселяемые» (третья). Параллельно, скорее как синоним для обозначения «высылки», используется термин «выселение».
В дальнейшем это многообразие слов создало трудности у интерпретаторов директивы. «Выселение» в одном случае трактовалось как более широкое понятие, распространявшееся и на вторую и третью категории, поскольку семьи «ликвидируемых хозяйств» должны были покинуть места прежнего проживания, в другом - как синоним высылки в «отдаленные местности».
Фактически в упомянутой директиве между строк проглядывала параллель с применением внесудебной высылки и ссылки. Решение о «выселении» и «расселении» походило на приговор к адмвысылке, согласно которому высланным воспрещалось возвращаться к месту прежнего жительства ранее установленного срока. «Выселение» и «высылка» были тождественны ссылке, т. е. «высылке из данной местности в определенный район» (Инструкция по применению постановления ВЦИК об административной высылке от 3 января 1923 г. // Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. — М., 1993. — С. 105.).
Вопрос о дальнейшей судьбе подвергшихся внесудебным репрессиям крестьян (использование их труда, определение статуса и т. д.) в постановлении Политбюро был едва намечен, что лишний раз подчеркивало преобладающую роль репрессивной мотивации.
Появление термина «спецпереселенцы» в качестве базового в начале лета 1930 г. не случайно и может служить индикатором изменения или, точнее, смещения приоритетов власти в отношении перспектив использования труда репрессированного крестьянства. В апреле 1930 г. была создана Всесоюзная комиссия «по устройству выселяемых кулаков» во главе с зам. председателя СНК СССР В.В. Шмидтом.
На республиканском уровне появилась аналогичная по функциям комиссия под руководством тогдашнего наркома внутренних дел РСФСР В.Н. Толмачева. По мере усиления антикрестьянских репрессий термин «выселяемые» (из определенных мест) заменялся на «переселяемые» (в отдаленные районы).
В протоколах комиссий Шмидта и Толмачева появляется словосочетание «кулаки-переселенцы», которое уступает место более краткому и емкому «спецпереселенцы». Эти лексические новации отражали схему мышления директивных органов. Последним было удобно обозначать принудительное перемещение значительных масс крестьянства привычной формулой «переселение» с добавкой «спец». На республиканские и местные земельные органы возлагались важнейшие для стадии расселения «кулаков» функции — определение мест нахождения поселков, отвод земель и сельхозугодий и т. д.
Они перекликались с функциями существовавших переселенческих управлений. В постановлении СНК РСФСР от 18 августа 1930 г. «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном и Сибирском краях и Уральской области» в п. № 1 было записано: «Возложить на Наркомзем РСФСР проведение земельного и хозяйственного устройства спецпереселенцев и их семей, занимающихся сельским хозяйством <...>» (Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 — весна 1931 г. — С. 33.).
В указанный период терминология носила устойчивый характер. Однако уже весной 1933 г. на уровне директивных органов в оборот вводится новый термин «трудпоселенцы». Впервые он получает «прописку» в постановлении СНК СССР от 20 апреля 1933 г. «Об организации трудовых поселений ОГПУ» (Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. — Новосибирск, 1994. — С. 15-22.).
Переименование «спецпоселений» в «трудпоселения», а «спецпереселенцев» в «трудпоселенцев» отражало очередной виток в сталинской репрессивной политике, затрагивавшей на этот раз не только крестьянство, но и другие слои населения страны. На рубеже 1932 - 1933 гг. в верхних эшелонах власти встал вопрос об изменении социальной направленности репрессий.
К этому времени первоначальным планам ОГПУ, направленным на сохранение категории «раскулаченных» для пополнения спецпоселений, не суждено было сбыться: уже в 1932 г. Политбюро фактически свело к минимуму амбициозные намерения ОГПУ продолжить массовые депортации крестьян. Но к 1933 г. развернулась крупномасштабная «чистка» городов от «деклассированного элемента», осуществлялись очередная «очистка» приграничных районов, а также «разгрузка» мест заключения и лагерей. Замкнув на себя все эти потоки принудительных миграций, ОГПУ оценивало их в цифрах, сопоставимых с высылкой крестьян 1930 — 1931 гг. (до 3 млн чел.), и предлагало направить весь этот т. н. новый спецконтингент в единое русло.
Спецпоселения с преимущественно крестьянским населением в целях колонизации северных и восточных территорий страны планировалось реформировать в трудовые поселения, весьма пестрые по социальному составу. Фактически ожидаемого эффекта власти не получили ни по масштабам, ни по результатам проведенной в 1933 г. акции, но новые обозначения («трудпоселения» и «трудпоселенцы») утвердились в карательном лексиконе. Однако нельзя не отметить в 1933-1934 гг. в секретном делопроизводстве органов, реализовывавших репрессивную политику, параллельное существование старых» и «новых» терминов.
Очевидно, органического замещения термина «переселенцы» термином «поселенцы» после 1933 г. не произошло, коль скоро сбои допускались самими же директивными органами. И даже если власти вкладывали в переименование определенный качественный смысл (завершение стадии переселения и переход к окончательному «оседанию» крестьян на новых территориях), то высланные крестьянские семьи практически так и оставались для них частью «спецконтингента», ссыльными.
Не случайно поэтому в конце Великой Отечественной войны карательные органы вернулись к первоначальному варианту. Оставшиеся к тому времени на поселении крестьяне стали именоваться «спецпереселенцы - бывшие кулаки».
Таким образом, с начала массовой депортации крестьян власти квалифицировали ее либо как репрессию в форме принудительных переселений (миграций), либо как переселение в специфической, репрессивной форме. Возвращение через 15 лет к первоначальному названию - «спецпереселенцы» — означало лишь то, что доминантой в глазах властей была репрессивная, а не миграционная составляющая упомянутого явления.
Глава 2. Раскулачивание и кулацкая ссылка в 1930-х гг. в СССР
2.1. Начало и ход «революции сверху»
«Сплошная коллективизация», или, по довольно точному определению И. В. Сталина, «революция сверху», поскольку «была произведена сверху, по инициативе государственной власти» (История ВКП(б). Краткий курс. – М. 1938, с. 291-292. Вторая часть этого определения, однако, была далека от действительности, утверждая, что «революция сверху» проходила «при прямой поддержке снизу со стороны миллионных масс крестьян, боровшихся против кулацкой кабалы, за свободную колхозную жизнь». Впрочем, С. П. Трапезников вскоре после хрущевской «оттепели» критиковал и первую часть этого определения, настаивая, ч го инициаторами коллективизации были сами крестьяне, а партия поддержала их порыв и помогла в осуществлении коренной реконструкции сельского хозяйства (С.П. Трапезников. Исторический опыт КПСС по социалистическому преобразованию сельского хозяйства — Вопросы истории КПСС. –1967. – № 11).) - одно из самых трагических событий отечественной истории после Октября 1917 г., имевшее самые пагубные последствия для крестьянства и сельского хозяйства страны.
Корни проблем и трудностей современного сельского хозяйства уходят в 1929-1933 гг., когда осуществлялись «аграрные преобразования», которые даже с точки зрения ортодоксального марксизма, можно назвать разве что псевдосоциалистическими. Завершающий рубеж «революции сверху» приходится на 1932-1933 гг., когда было объявлено о завершении «в основном» сплошной коллективизации и в полной мере определились социально-экономические итоги и разрушительные последствия этого «социалистического» эксперимента, по существу одной из наиболее преступных акций сталинской эпохи.
Курс на сплошную коллективизацию, лишь обозначенный в решениях XV съезда ВКП(б), был взят в конце 1929 г. (ноябрьский пленум ЦК ВКП(б), выступления Сталина 3 ноября и 27 декабря), а затем закреплен и конкретизирован в постановлениях ЦК ВКП(б) от 5 и 30 января 1930 г. и ряда последующих. Созданная в годы нэпа разветвленная и многообразная сеть кооперативов, была окончательно ликвидирована или огосударствлена, началось безудержное форсирование коллективизации на основе насилия и массовых репрессий, фактически в единственной форме — сельскохозяйственной артели, причем как «переходной к коммуне формы колхоза» (КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.4. Изд. 8. – М. 1970. – С 57, 385.). К концу февраля 1930 г., согласно сводкам земельных органов, было коллективизировано 56% крестьянских хозяйств в целом по СССР и около 60% в РСФСР (История советского крестьянства. Т. 2. – М. 1986. – С. 155.).
Крестьянство ответило на это массовыми протестами, вплоть до вооруженных выступлений. В закрытом письме ЦК ВКП(б) от 2 апреля 1930 г. «О задачах колхозного движения в связи с борьбой с искривлениями партийной линии» ситуация оценивалась следующим образом: «Поступившие в феврале месяце в Центральный Комитет сведения о массовых выступлениях крестьян в ЦЧО, на Украине, в Казахстане, Сибири, Московской области вскрыли положение, которое нельзя назвать иначе как угрожающим.
Если бы не были тогда немедленно приняты меры против искривлений партлинии, мы имели бы теперь широкую волну повстанческих крестьянских выступлений, добрая половина наших «низовых» работников была бы перебита крестьянами, был бы сорван се», было бы подорвано колхозное строительство и было бы поставлено под угрозу наше внутреннее и внешнее положение» (Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927—1932 гг. – М. 1989. – С. 390. Это письмо, содержащее объективную оценку обстановки в деревне весной 1930 г., имело сугубо секретный характер, рассылалось по особым спискам с требованием возвращения в ЦК ВКП(б).). По существу речь шла не об угрозе, а о начале крестьянской войны против насильственной коллективизации, против партии и Советской власти.
Реакция режима, у которого почва заколебалась под ногами, на этот раз была стремительной и результативной. Грубейшие «ошибки и искривления», допущенные, якобы, только местными работниками вопреки «правильной линии партии», были тотчас же признаны, меры по их исправлению приняты и в той или иной степени реализованы. Их первый результат – массовые выходы крестьян из ненавистных колхозов, резкое снижение уровня коллективизации (в том числе и за счет «бумажных колхозов»)- к концу лета 1930 г. почти на две трети (но СССР до 21,4%, по РСФСР- до 19,9) (История советского крестьянства. Т. 2, с. 190-191.). А затем наступило кратковременное «затишье», своеобразная стабилизация, когда «низы» добровольно не хотели возвращаться в колхозы, а тем более создавать новые, а растерявшиеся «верхи» на местах не решались начинать новое наступление на крестьян.
Сталина и его окружение, разумеется, не устраивали ни спад, ни застой коллективизации, ни отказ местных руководителей от ее дальнейшего подталкивания. Уже в сентябре 1930 г. ЦК ВКП(б) направил всем крайкомам, обкомам ЦК компартий республик директивное письмо «О коллективизации», в котором резко осуждалось пассивное отношение к «новому приливу» в колхозы со стороны партийных организаций. Им предлагалось развернуть политическую и организационную работу среди крестьянства с тем, чтобы «добиться мощного подъема колхозного движения».
Установление таких сроков для крестьянских хозяйств огромной страны, а тем более придание им силы закона само но себе означало грубое попрание таких элементарных принципов кооперирования, как постепенность этого процесса, строгая добровольность вступления в кооперативы. Более того, в марте 1931 г. Сталин в специальной телеграмме местным партийным организациям «разъяснил», что им «не только не возбраняется, но, наоборот, рекомендуется перевыполнять задание по коллективизации» (Правда. 16.IХ. 1988.). Таким образом, курс на ее всемерное форсирование продолжался: подготавливалось новое наступление на крестьянство.
Однако боязнь повторения «грозной весны» 1930 г. заставила правящую верхушку маневрировать. Стало очевидно, что одного насилия недостаточно, необходимы и меры, в той или иной мере стимулирующие вступление крестьян в колхозы. К их числу можно отнести широко разрекламированную программу строительства новых МТС, «твердые» обещания упорядочить организацию и оплату труда в колхозах, гарантировать колхознику ведение в определенных размерах личного подсобного хозяйства и др. В то же время насильственные методы продолжали оставаться главными, решающими. Среди них — продолжение ангикрестьянской политики «ликвидации кулачества как класса», в осуществлении которой начался «новый этап», отнюдь не случайно совпавший с «новым подъемом» коллективизации.
Переход к политике «ликвидации кулачества как класса» был провозглашен Сталиным еще в ноябре 1929 г. в речи на конференции аграрников-марксистов, объявившим о «настоящем наступлении на кулачество» (Сталин И. В. Сочинения. Т.12. – С. 166-170.). К этому времени, в преддверии сплошной коллективизации, 21 мая 1929 г. СНК СССР определил признаки кулацких хозяйств, достаточно расплывчатые и неопределенные, которые затем были несколько уточнены при разработке закона о едином сельскохозяйственном налоге на 1930 год. Политика ликвидации кулачества, наиболее активно проводившаяся в начале 1930 г., привела к тому, что большинство кулацких хозяйств (если даже исходить из признаков, установленных в постановлении СНК), прекратили свое существование.

В таких условиях выявление новых кулацких хозяйств становилось нелегкой задачей для финансовых органов, которым слала принадлежать пальма первенства при определении социальной принадлежности крестьянских дворов. ЦИК и правительство в конце 1930 г. сделали попытку в законе о едином сельскохозяйственном налоге на 1931 г. по-новому определить признаки кулацких хозяйств. Однако, по свидетельству М. И. Калинина, она не увенчалась успехом. «Старые признаки кулачества, — сокрушался «всесоюзный староста», считавшийся знатоком крестьянского хозяйства, — почти отпали, новые не появились, чтобы их можно было зафиксировать» (Цит. по: Мошков Ю. А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации. М., 1966. – С. 176.).
Выход из этого тупика нашли такой: постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 декабря 1930 г. местным Советам было предписано самим устанавливать признаки кулацких хозяйств «применительно к местным условиям. При таком подходе социальные грани между кулачеством и зажиточными слоями крестьянства размывались, на первый план все больше выступали имущественные различия.
По указанию правительства Наркомфин СССР и его органы на местах устанавливали численность и удельный вес крестьянских хозяйств, подлежащих «индивидуальному обложению» (т. е. кулацких). В 1930/31 г. было дано указание районам, не завершившим сплошную коллективизацию, выявить не менее 3% таких хозяйств (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 декабря 1930 г.). При этом преследовались две цели: полностью или даже с превышением выполнить план по индивидуальному обложению; еще раз «нажать» на единоличника, под угрозой раскулачивания загнать его в колхоз.
На места от имени Наркомфина шли предписания «немедленно усилить работу по выявлению кулака и обложению его в индивидуальном порядке»; «форсировать реализацию описанного у кулака имущества»; «выявлять конкретных виновников, привлекать их к строгой административной или судебной ответственности» и т. д. и т. п. Руководители ряда районов, отстававших в выявлении кулацких хозяйств были обвинены в проведении «правоонпортунистической линии» и отданы под суд. В целом по стране к февралю 1931 г. было выявлено и обложено индивидуальным налогом 272,1 тыс. крестьянских хозяйств, или 1,3% от их общего числа.
На всем протяжении 1932 г. финансовые органы продолжали ревностно «выявлять» и «довыявлять» кулацкие хозяйства. Активно использовались с этой целью колхозы. По данным весенней переписи колхозов 1931 г., 26,6% всех колхозов страны исключили «кулацкие хозяйства» (с юридической точки зрения это были уже бывшие кулацкие хозяйства), в том числе в Нижне-Волжском крае — 68,9%, в Средне-Волжском — 45,3%, на Северном Кавказе- 21,5% колхозов (Колхозы весной 1931 года. – М., 1932. – С. 104-106.). Исключенные хозяйства немедленно облагались индивидуальным налогом, а если они не в состоянии были его уплатить, против них применялись репрессивные меры вплоть до выселения в отдаленные районы страны. В первой половине 1932 г. для индивидуального обложения было выявлено 80 тыс. хозяйств единоличников.
С мест в центральные органы непрерывно поступали жалобы от крестьян на то, что финансовые органы к числу кулацких относили и середняцкие и даже бедняцкие хозяйства. Основанием для индивидуального обложения, как отмечалось в письмах, служило наличие в хозяйстве ручной молотилки, сепаратора, даже продажа ими на рынке продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве.
Несмотря на то, что численность хозяйств, обложенных индивидуальным налогом в 1930/31 г., уменьшилось примерно вдвое, общая сумма налога по этому виду обложения сократилась ненамного, поскольку было значительно повышено обложение хозяйств, отнесенных к кулацким (более чем в 2 раза — со 189 до 418 руб. на хозяйство).
Осенью 1930 г. возобновилось выселение раскулаченных крестьян. Общее руководство и контроль осуществляла комиссия во главе с заместителем председателя СНК А. А. Андреевым. В целом по стране, по подсчетам специальных комиссий ЦКК ВКП(б), на протяжении 1930 г. было раскулачено и выслано в отдаленные районы страны 115231 крестьянская семья, в 1931 г.— 265795, а всего за два года - 381026 семей (История советского крестьянства. Т. 2. С. 219, 222; История СССР. – 1990. – № 5. – С. 25.).
Основная часть спецпереселенцев направлялась в малонаселенные, часто почти не пригодные для жизни районы. Как указывалось в записке председателя ОГПУ Г. Г. Ягоды Сталину, к январю 1932 г. в этих районах было расселено около 1.4 млн. человек, в том числе на Урале - 540 тыс., в Сибири - 375 тыс., в Казахстане - более 190 тыс., в Северном крае — свыше 130 тысяч (История СССР. – 1989. – № 3. – С. 44.). Большинство из них работало на лесоповале, в горно-добывающей промышленности, меньшая часть использовалась в сельском хозяйстве.
Положение спецпереселенцев было крайне тяжелым. «Опеку» над ними осуществляло ОГПУ, а «поселки» мало чем отличались от концлагерей. Оперуполномоченный ОГПУ по Уралу А. С. Кирюхин и начальник областного комендантского отдела Н. Д. Баранов сообщали вышестоящему начальству, что из-за отсутствия надлежащего питания и медицинского обслуживания большая часть спецпереселенцев потеряла трудоспособность и не могла обеспечить выполнение плана лесозаготовок. Руководство леспромхоза стало привлекать к работе стариков, женщин и детей 12-летнего возраста, установив для них норму выработки 2—2,5 кубометров в день при средней норме для взрослого 3 кубометра. Чтобы выполнить эту норму, многие оставались в лесу целыми сутками, нередко замерзали, обмораживались, тяжело заболевали. В каждом спецпоселке были арестантские помещения, куда за небольшие проступки заключались люди всех возрастов.
Положение не изменилось и в 1932 году. В начале 1933 г. заместитель наркома лесной промышленности сообщил правительству об ужасном положении людей в сибирских леспромхозах: «На почве недоедания спецпереселенцев и в особенности их детей свирепствует цинга, брюшной и сыпной тиф, принимая формы эпидемического характера с массовом смертностью. В одном только Гаинском леспромхозе за апрель месяц убыло 175 человек и имеется больных цингой и опухших от голода 285 человек». Автор записки вторично ходатайствовал об отпуске 500 т муки для питания 45 тыс. детей, чтобы спасти их от голодной смерти (Более подробно см. Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 – весна 1931 г. Сб. док. Новосибирск, 1992; Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 – начало 1933 года. Новосибирск, 1993; Из истории раскулачивания в Карелии 1930-1931 гг. Документы и материалы. Петрозаводск, 1991.).
Многие спецпереселенцы предпринимали отчаянные попытки бежать, но, как правило, они заканчивались трагично: беглецов либо пристреливали но дороге, либо возвращали в лагеря. Тем не менее, только в сентябре - октябре 1931 г. было зарегистрировано более 37 тыс. побегов. По оценкам западных социологов, погибло в общей сложности от четверти до трет депортированных крестьян. Многие умерли в пути, не доехав до лагерей. Из выселенных в 1930-1931 гг. около 413 тыс, крестьянских семей прибыло на места только 370 тысяч (См. Конквест Р. Жатва скорби: советская коллективизация и террор голодом. – Лондон, 1988. – С. 218; Маскудов С. Потери населения СССР. – Вермонт, 1989. – С. 46, 48.).
Политика ликвидации кулачества как класса являлась важнейшим фактором осуществления сплошной коллективизации. Причем проводилась она не на основе сплошной коллективизации, как утверждал Сталин, а значительно опережала ее, стимулируя последнюю экономически (передача колхозам или даже отдельным бедняцко-середняцким хозяйствам средств производства и имущества раскулаченных) и психологически (фактор «последнего предупреждения» и устрашения единоличников). К тому же термин «раскулачивание», во всяком случае применительно к рассматриваемому периоду, неправомерен, поскольку кулака в деревне в это время фактически уже не было не только как класса, но и как социального слоя, «раскулачивали» и ликвидировали, как правило, зажиточных крестьян и середняков, даже некоторых бедняков, заподозренных в сочувствии кулакам и противодействии властям («подкулачники»).
Ход коллективизации в 1931 г. поначалу радовал партийное руководство. Программа «нового подъема» колхозного движения, по данным сводок Колхозцентра и Наркомзема, осуществлялась с опережением намеченных показателей. Об этом победно возвестил июньский (1931 г.) Пленум ЦК ВКП(б). Нажим на, крестьян был столь силен, что задания по коллективизации, установленные декабрьским Пленумом ЦК 1930 г. и январской 1931 г. сессии ЦИК на весь 1931 г., были выполнены уже весной. Инструктор ЦИК Н. И. Короткое, побывавший в это время в Сосновском районе ЦЧО в связи с проверкой жалоб крестьян, посланных на имя Калинин;!, пришел к выводу: «По своему характеру и глубине ошибки превосходят даже ошибки 1929-1930 гг... Сплошная коллективизация, как правило, проводилась в жизнь независимо от результатов голосования крестьян.
«Новый подъем» колхозного движения едва дотянул - до осени 1931 года. С конца года повсеместно начались массовые выходы из колхозов, которые уже нельзя было больше ни скрыть, ни замаскировать. В докладной записке Колхозцентра в ЦК ВКП(б) «О колхозном строительстве (октябрь 1931 - февраль 1932 г.)» с тревогой отмечалось, что в январе и феврале происходил «спад коллективизации в большинстве районов СССР и особенно в некоторых зерновых районах РСФСР». Вскоре в ЦК была направлена специальная справка Наркомзема и Колхозцентра «О выходе из колхозов», в которой сообщалось, что «в ряде основных областей СССР зимой и весной 1932 г. имело место большое уменьшение коллективизированных хозяйств». Среди этих районов назывались зерновые районы РСФСР, Украина, Казахстан, ряд областей потребительской полосы РСФСР.
Массовые выходы из колхозов продолжались на всем протяжении 1932 г., а пик их пришелся на первое полугодие, когда число коллективизированных хозяйств в РСФСР сократилось на 1370,8 тыс., на Украине - на 41,2 тысячи. По существу оказались дезавуированными выводы июньского Пленума 1931 г. о решающих победах коллективизации, о ее завершении в важнейших зерновых и сырьевых районах страны. Крупномасштабный отлив из колхозов срывал все планы Колхозцентра и Наркомзема, которыми предусматривалось (исходя из показателей весны 1931 г.) к весне 1932 г. «коллективизировать» 16,9 млн. или 69%, а к концу 1932 г.— 17,9 млн., или 73% крестьянских хозяйств, а 1932 г. был объявлен «годом завершения сплошной коллективизации». Встал вопрос, как остановить бегство крестьян из колхозов.
Ведь положение колхозников продолжало ухудшаться. В первом квартале 1932 г., когда окончательно выяснилось, что выдача на трудодни зерна будет минимальной или вовсе не состоится, в ЦИК СССР и РСФСР усилился поток жалоб крестьян «на невозможность существования в колхозах людям с большой семьей при наличии малолетних, стариков и нетрудоспособных». В письмах на имя Сталина сообщалось о крайне тяжелом продовольственном положении колхозов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана, Украины. В ряде районов начался голод.
На положении крестьян особенно тяжело сказалась широко распространившаяся во второй половине 1931 г. практика принудительного обобществления коров и мелкого скота. В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 30 июля 1931 г. «О развертывании социалистического животноводства» выдвигалась «центральная задача ближайшего времени в области сельского хозяйства» — добиться в 1931 —1932 гг. решительного перелома в развитии животноводства путем создания колхозных ферм и увеличения поголовья скота в совхозах (Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления..., с. 381, 391-393.). Была разработана и стала проводиться в жизнь авантюристическая программа, нацеленная на то, чтобы за 1-2 года на базе общественного хозяйства решить проблему снабжения страны продуктами животноводства.
В докладной записке в ЦК ВКП(б) Колхозцентр сообщал, что вскоре после принятия этого постановления практика поголовного обобществления скота с применением принудительных методов широко распространилась во многих колхозах. Скот у колхозников нередко отбирали силой: взламывали запоры в хлевах, загоняли на общий двор коров колхозников, пасшихся вместе с общественными. А когда колхозники требовали вернуть отобранный скот, им выдавали квитанции о том, что скот обобществлен или зарезан на мясо. Обследование, проведенное НК РКИ РСФСР весной 1932 г., показало, что «в ряде районов комплектование стада для колхозных ферм проводилось путем принудительного обобществления скота», причем «обобществлялись не только последние коровы, но мелкий скот и птица». Все эти акции являлись грубейшим нарушением ст. 4 примерного Устава сельскохозяйственной артели.
Ответом на эти действия и явились массовые выходы крестьян из колхозов с требованиями вернуть им скот, инвентарь, часть посевов. Весной 1932 г. в Раненбургском районе ЦЧО выходы охватили 25 (из 38) сельсоветов. Заявления подали 2 тыс. хозяйств, или 14% общего числа колхозников.
Подавшие заявления не выходили на работу и потребовали от правлений колхозов возвратить им лошадей, коров, инвентарь, а также раздела посевов для индивидуальной уборки урожая. Были выдвинуты лозунги «Долой колхозы!», «Да здравствует единоличник!». Милиция и ОГПУ стали выявлять зачинщиков. Было арестовано 100 крестьян. В Рыльском районе ЦЧО многие крестьяне, подавшие заявления о выходе из колхоза, были избиты, 700 арестованы. Попытка освободить арестованных в селе Круиенском (с этой целью 200 человек, в том числе и женщин направились к сельсовету) окончилась трагично: 5 человек было убито. Выходцев заставили забрать свои заявления. В Акимовском сельсовете того же района всех выходцев «подвергли телесному наказанию» и отправили в тюрьму. После этой расправы большинство крестьян было вынуждено вернуться в колхоз.
Имели место и открытые выступления крестьян, в большинстве случаев стихийные. Об этом сообщалось в сводках ОГПУ. Росла опасность повторения событий зимы – весны 1930 года. В таких условиях власти решили временно отступить. 26 марта 1932 г. ЦК ВКП(б) принял одно из самых фарисейских постановлений того периода — «О принудительном обобществлении скота». В нем говорилось, что «задача партии состоит в том, чтобы у каждого колхозника были своя корова, мелкий скот, птица» (КПСС в резолюциях..., т. 5, с. 43.). Это постановление призвано было устранить одну из важнейших причин выходов крестьян из колхозов, успокоить деревню. Однако на местах не спешили возвращать крестьянам отобранный скот (нередко потому, что он уже был сдан на мясозаготовки). В спсцсводке ОГПУ от 30 июня 1932 г. отмечалось, что часть агроспециалистов и руководящих работников оценивали это постановление как «поворот влево, назад к нэпу, отказ от коллективизации, восстановление частной торговли».
Пропагандистский характер имели также постановления от 6 и 10 мая 1932 г. о развертывании колхозной торговли хлебом и мясной продукцией. Достаточно сказать, что торговля хлебом разрешалась колхозам, колхозникам и единоличникам только после выполнения государственного плана хлебозаготовок в масштабе областей, краев и автономных республик (а мясной продукцией — при условии выполнения централизованного плана скотозаготовок) и образования семенного и других фондов. А поскольку хлебозаготовители в основных зерновых районах выгребали из амбаров колхозов и колхозников весь урожай «до последнего зерна», включая продовольственный и семенной фонды, то практически у них не было реальных шансов «развернуть торговлю хлебом».
Крестьянство на своем горьком опыте быстро убедилось в лицемерии этих постановлений. И не случайно поэтому выходы из колхозов в различных районах страны не прекратились в период уборочной кампании 1932 г. и продолжались осенью, когда начались хлебозаготовки. Происходили серьезные столкновения между колхозниками и местными властями. Имели место многочисленные факты роспуска колхозов самими крестьянами. В сводке ОГПУ от 23 июля 1932 г. говорилось об «ухудшении политнастроения части колхозников», «росте массовых выходов из колхозов, разборе скота, имущества и сельскохозяйственного инвентаря», «усилении тенденции к индивидуальному сбору урожая», «самочинном захвате и разделе в единоличное пользование земли и посевов», «продолжение многочисленных случаев отказа от работы целых групп колхозников, мотивированных отсутствием хлеба и неналаженностью общественного питания на полях».
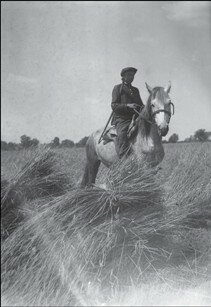
Секретные донесения работников ОГПУ этого периода больше похожи на сводки из районов, охваченных всеобщим гражданским неповиновением. Это свидетельство о том, что крестьянская война, вспыхнувшая в деревне зимой-весной 1930 г., сразу же после перехода к политике сплошной коллективизации, накал которой несколько ослабел во второй половине 1930-начале 1931 гг., разгорелась с новой силой. Так отвечала деревня на пропагандистские постановления о возвращении колхозникам коров и мелкого скота, о снижении размеров хлебозаготовок, о развертывании колхозной торговли, на насильственную коллективизацию. И тогда на крестьян вновь обрушился «карающий меч» репрессий.
1 августа 1932 г. был принят, продиктованный Сталиным, драконовский закон об охране социалистической собственности, предусматривавший расстрел за хищение колхозного и кооперативного имущества с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на 10 лет. Согласно данным на 15 февраля 1933 г., представленным Президиуму ЦИК СССР председателем Верховного суда СССР А. Винокуровым, по закону от 7 августа в целом по стране было осуждено 103 тыс. человек, из них приговорено к высшей мере наказания 6,2% (более 6 тыс.), к 10 годам лишения свободы 33%. Из общего числа осужденных 62,4% приходилось на колхозников, 9,4% - на работников совхозов, 5,8% - на единоличников. Стремясь оправдать действия репрессивных органов Винокуров пояснил, что «большой процент осужденных к 10 годам единоличников и колхозников (68,2) указывает, что суды нанесли крепкий удар по мелкособственническим элементам, не изжившим частнособственнической психологии» (Эти данные, более полные по сравнению с теми, которые обычно приводятся в литературе последних лет, содержатся в выступлении наркома юстиции РСФСР Н. В. Крыленко на Пленуме ЦК ВКП(б) в январе 1933 г. (См., напр., История СССР. – 1990. – № 5. – С. 26; Осколков Е. Н. Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в Северо-Кавказском крае. Ростов-на-Дону, 1991, с. 199). По данным Крыленко, относящимся к РСФСР, к началу января было осуждено на основе закона от 7 августа 1932 г. 54,7 тыс. человек, а приговорено к расстрелу 2,1 тысяч. А. Винокуров приводит сведения по СССР на 15 февраля 1933 г., причем первую из этих цифр увеличивает почти в 2, а вторую - в 3 раза.).
Между тем среди осужденных было немало крестьян, срезавших колосья ржи и пшеницы, чтобы избежать голодной смерти. В сводке ОГПУ, составленной в конце августа 1932 г., сообщалось что в колхозе «Пролетарская диктатура» Краснодарского района Северо-Кавказского края группа объездчиков ночью обнаружила на полях пятерых женщин, срезавших колосья пшеницы. Охранники дважды стреляли в них. Одна из женщин была смертельно ранена, оставшиеся в живых пойманы и отданы под суд. На полях колхоза станицы Белореченской было задержано несколько подростков, срезавших колосья. Н. Кириллович, живший в Житомирской области УССР, вспоминал: «Мне было 11-12 лет, и я увидел страшный голод. Нас в семье было 5 детей, голодные, начали пухнуть. Мы питались, чем могли... Мать нас, детей посылала собирать в поле колоски... Этих спасительных колосков хлеба не разрешали собирать» (Известия, 18.VI. 1988.).
«Революция сверху» была запрограммирована и стала осуществляться прежде всего ради индустриализации: сельское хозяйство призвано было стать ее прочной сырьевой базой и обеспечивать горожан продовольствием. Еще в 1928 г., рассуждая об источниках индустриализации, Сталин подчеркнул, что крестьянство в этой связи должно платить «сверхналог», «нечто вроде дани» (не только обычные налоги, но и переплачивать из-за высоких цен на промышленные товары и недополучать из-за низких цен на сельскохозяйственные продукты). Колхозы же и совхозы, насаждаемые сверху, должны были в кратчайшие сроки решить зерновую, животноводческую и сырьевую проблемы. А в конце 1929 г., поскольку произошел «великий перелом», Сталин объявил, что «теперь у нас имеется... материальная база для того, чтобы заменить кулацкое производство производством колхозов и совхозов». Именно поэтому он объявил о переходе в решительное наступление на кулачество, к политике ликвидации его как класса (См. Сталин И. В. Сочинения Т. 11, с. 159, 263; Т. 12, с. 149, 169.).
По существу это была установка на истребление, в том числе физическое, целого слоя крестьянства, поскольку производственная надобность в них, по мнению Сталина, отчала. Не менее циничными были его рассуждения спустя несколько лет, когда на закрытом совещании в Кремле 2 июля 1934 г. решался вопрос о судьбе крестьян-единоличников, не желавших «всасываться» в колхозы. Исходя из того, что «период форсирования коллективизации закончился в 1932 г.», Сталин высказался против тою, чтобы «уничтожать индивидуалов, арестовывать, наказывать, расстреливать их и пр.». «Это будет не хозяйский подход. Индивидуальное хозяйство нам дает кое-какой хлеб... Их надо воспитывать в порядке экономических и финансовых мероприятий.., усилить налоговый пресс». Это была команда на экономическое удушение более 9 млн. единоличных хозяйств (45 млн. чел. вместе с семьями!).
В 1930 г. был собран небывалый для того времени урожай – по официальной статистике 835,4 млн. центнеров (на 14% больше, чем в 1928 г.), а государственные заготовки хлеба достигли 221,4 млн. ц (в 2 раза больше, чем в 1928 г.) (История советского крестьянства, т. 2, с. 260-261. Есть основания все же усомниться в столь высоких показателях валового сбора зерна в 1930 году. Н. Ясный установил, что в 1930 г. сведения о валовых сборах зерна в СССР были получены на основе рапортов хозяйств и земельных органов, отразивших ситуацию накануне уборки. Ни до, ни после 1930 г. в стране, начиная с 1909 г. и до 1937 г. таких высоких урожаев не собирали. Сталин был крайне заинтересован в таком «рекорде» именно в канун сплошной коллективизации. По данным американского экономиста Д. Карпа, в 1930 г. в СССР было фактически собрано 772 млн. центнеров зерна.). Отсюда был сделан необоснованный вывод, что партия, опираясь на колхозы и совхозы, «успешно разрешила в основном зерновую проблему», и что за 1-2 года можно решить и животноводческую проблему". Однако программа «больших скачков» в сельском хозяйстве, не подкрепленная материальными ресурсами, не учитывавшая происходивших в деревне процессов, провалилась. Как и следовало ожидать, уже в следующем году произошло падение валовых сборов зерна (в 1931 г.— 694,8 млн. ц, а в 1932 г. — 698,7 млн. ц) — и не только из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых зерновых районах, но главным образом ввиду отсутствия у колхозников подлинной заинтересованности в производительном труде в общественном хозяйстве. Возникли огромные трудности по реализации непосильных для крестьян хлебозаготовительных планов. Реальные возможности при этом почти не учитывались.
Волюнтаристский пересмотр заданий первого пятилетнего плана в области промышленности неизбежно вел к все большему перекачиванию средств и ресурсов из деревни в город. С начала 30-х годов по существу речь уже шла о ее разорении ради «сверхиндустриализации» (Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза СССР. – М., 1934. – С. 197). Делалось что в частности, путем перекачки в город сверх всякой разумной меры людских ресурсов: за годы коллективизации свыше 10 млн. крестьян пополнили ряды рабочего класса. Покинувшие деревни крестьяне, обосновавшиеся в городе, получили гарантированную заработную плату, более сносные условия труда. Горожане, включая и недавних производителей сельскохозяйственной продукции, начиная с 1928 г., имели гарантированное снабжение по карточкам, в то время как десятки миллионов крестьян голодали.
Несмотря на сокращение в 1931-1932 гг. валовых сборов зерна хлебозаготовки значительно возросли (только за счет увеличения доли отчисления от собранного урожая, что аргументировалось «высокой товарностью» хозяйства колхозов и совхозов). Крестьян заставляли сдавать хлеб по грабительским ценам (в 8-10 раз ниже рыночных). «Сверхналог» с них взимался и путем экспорта зерна, ибо полученная за него валюта использовалась на закупки промышленного оборудования. В 1930 г. при высоком урожае было вывезено за рубеж 48,4 млн. ц. зерна, в 1931 г., когда был недород, — 51,8 млн. ц., а в 1932 г. в условиях начавшегося голода -18 млн. центнеров (История советского крестьянства. Т. 2, с. 261.). Прекращение вывоза зерна в этом году могло бы спасти от смерти несколько миллионов крестьян или даже вовсе избежать голода.
Широкое распространение получили дополнительные («встречные») планы хлебозаготовок, предъявляемые деревне после выполнения основных. Крестьяне оказывали хлебозаготовительным органам противодействие, стремились утаить от них часть выращенного урожая. Сталин расценивал это как «злостный саботаж» хлебозаготовок, вредительство, преодолевать которые надо с помощью чрезвычайных (репрессивных) мер. В ответ на письма М. А. Шолохова, протестовавшего против таких методов заготовок, он писал, что хлеборобы «по сути дела вели «тихую» войну с советской властью. Войну на измор» (См. Вопросы истории. – 1994. – № 3. – С. 7-21, 22.).
Тягчайшие репрессии вновь обрушились на крестьянство. Основными проводниками их стали чрезвычайные комиссии, действовавшие в основных зерновых районах страны. Решение об их создании на Украине и Северном Кавказе было принято Политбюро ЦК ВКП(б) 22 октября 1932 г. «в целях усиления хлебозаготовок»; первую из них возглавил В. М. Молотов, вторую — Л. М. Каганович. Персональный состав северокавказской комиссии был определен в начале ноября; в нее вошли: М. А. Чернов (комитет заготовок), Т. А. Юркин (наркомат совхозов), А. И. Микоян (наркомат снабжения), Я. Б. Гамарник (политуправление РККА), М. Ф. Шкирятов (ЦКК ВКП(б)), Г. Г. Ягода (ОГПУ), А. В. Косарев (ЦК ВЛКСМ). Персональный состав комиссии Молотова не был установлен, фактически же в ее работе принимал участие Каганович — секретарь ЦК, а с декабря 1932 г. и заведующий Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б). В конце ноября 1932 г. для поездки в Поволжье была создана комиссия во главе с секретарем ЦК ВКП(б) и КП(б) У П. П. Постышевым, в состав которой вошли также Зыков, Гольдин и Шкляр (Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 начало 1933 г. – Новосибирск, 1993. – С. 241.).

Опираясь на обкомы и крайкомы партии, а на Украине - на ЦК и Политбюро КП(б)У, комиссии осуществили комплекс репрессивных мер по отношению к колхозам, деревням и станицам, уличенным в «злостном саботаже» хлебозаготовок. Их заносили на «черную доску», что означало: 1) немедленное прекращение подвоза товаров, полное свертывание кооперативной и государственной торговли с вывозом из магазинов всех наличных товаров; 2) полное запрещение торговли как для колхозников, так и для единоличников; 3) прекращение кредитования и досрочное взыскание кредитов и других финансовых обязательств; 4) проведение чистки колхозных, кооперативных и государственных аппаратов от «враждебных элементов»; 5) изъятие органами ОГПУ организаторов саботажа хлебозаготовок (Там же. С. 243.). По существу это означало полную блокаду «провинившихся» сел и деревень.
Помимо «стереотипных» пяти пунктов каждый из руководителей комиссий стремился внести что-то свое, «оригинальное». Кагановнч применил на Кубани такую жестокую меру, как поголовное выселение (депортацию) всех жителей станиц (в основном казаки), упорствующих в «саботаже», на Север и заселение их колхозниками с Севера и демобилизованными красноармейцами (Среди 41 из станиц были Полтавская, Медведовская и Урупская (в них проживало 45,6 тыс. человек), первая из них была переименована в Красноармейскую. Всего же на «черную доску» было занесено 15 станиц. При участии Молотова в ноябре 1932 г. была разработана инструкция «Об организации хлебозаготовок в единоличном секторе Украины». Она предусматривала лишение единоличников «злостно уклоняющихся от выполнения плана хлебозаготовок» земельных наделов, в том числе и усадебной земли, с выселением их владельцев за пределы района или даже области.).
С помощью таких драконовских мер комиссиям удалось полностью выгрести из скудных крестьянских амбаров весь хлеб «до последнего зерна» и тем самым внести «решающий вклад» в организацию «рукотворного» голода в этих районах. Однако обеспечить выполнение плана хлебозаготовок удалось только Нижне-Волжскому краю (к 10 января 1933 г.). На Украине же он «был провален», что зафиксировано в постановлении ЦК ВКП(б) от 24 января 1933 г. и на февральском (1933 г.) Пленуме ЦК Компартии Украины. На Северном Кавказе, как отмечалось в решении крайкома партии, план «был выполнен к 15 января 1933 г.», но при этом «в выполнение плана внесен весь собранный краевой семфонд» (См. История СССР. – 1989. – № 2. – С. 4-8.).
В Казахстане, входившем тогда в состав РСФСР на правах автономной республики, чрезвычайная комиссия не создавалась, ее функции по существу выполнял крайком партии, возглавляемый Ф. И. Голошекиным. Именно под его руководством в 1931-1932 гг. проводился курс на сплошную коллективизацию кочевых и полукочевых хозяйств, и ранее созданные тозы срочно преобразовывались в сельхозартели. Во главу угла при этом ставилось выполнение авантюристической программы «большого скачка» в животноводстве.
Республике были определены соответствующие задания по росту поголовья скота и сдаче его продукции, выполнение которых мыслилось на основе создания колхозных ферм и увеличения поголовья скота в животноводческих совхозах. Голощекин на одном из пленумов крайкома заявил, что отпала необходимость учитывать социально-экономические особенности республики, поскольку она уже «мало чем отличается от центральных районов страны». Местные партийные органы принимали решения о полном обобществлении скота, «не оставляя ни одного паршивого козленка в индивидуальном пользовании» (Там же. С. 7.).
2.2. Итоги и следствия «сплошной коллективизации»
В результате насильственной коллективизации произошла ломка вековых традиций и всего образа жизни кочевников. В центральных районах республики почти в 10 раз сократилось поголовье скота. «Обобществленный» скот погиб от бескормицы и зимних холодов или был сдан в счет плана мясозаготовок. Решить животноводческую проблему такими методами было невозможно. На XVII съезде партии (январь 1934 г.) Сталин вынужден был признать наличие «кризиса животноводства» в стране» (Сталин И. В. Сочинения. Т. 13, с. 329-330.).
Поскольку оно являлось основным занятием и почти единственным источником дохода кочевников и полукочевников Казахстана, они практически лишились средств существования. Началась массовая миграция, фактически бегство людей из обжитых мест («откочевки»). «Зима 1932— 1933 г., — говорилось в донесении политсектора МТС Казахстана, — была особенно тяжела. Массовые откочевки, смертность, особенно в казахской части населения, массовый убой и разбазаривание скота, отсутствие хлеба для питания, фуража для рабочего скота... Колхозники уходили в горы, пески, шли собирать коренья и семена дикорастущих трав. Оставшиеся колхозники не могли работать из-за сильного истощения и болезни». Всего откочевало до 400 тыс. хозяйств (не менее 2 млн. человек!), или примерно две трети всех кочевых и полукочевых хозяйств республики (Вопросы истории. – 1989. – № 7. – С. 67; Историческая демография: новые подходы, методы, источники. – М. 1992. – С. 76-78.).
В Казахстане начался голодомор. Организм казахов-скотоводов не был приспособлен только к растительной пище, и смерть косила их целыми семьями. По данным демографов Казахстана, от голода в начале 30-х годов в республике погибло 1798 тыс. казахов, проживавших в кочевых и полукочевых районах. Казахский этнос после таких потерь был восстановлен только к концу 60-х годов. «Эта страшная трагедия,— считают ученые Казахстана, — по своим последствиям затмила все сколько-нибудь известные прецеденты из исторического прошлого народа» (Там же. С. 79.).

Северный Кавказ, где, по данным Е.А. Осокиной, голод охватил 44 района из 75, не досчитал около 1 млн., Поволжье, по расчетам В. В. Кондрашина, — около 0,5 млн. человек. Расчеты С. В. Кульчицкого и И. С. Пирожкова показывают, что наибольшие потери понесла Украина: здесь погибли от голода 3,5-4 млн. крестьян. В обшей сложности в зерновых районах страны голодало не менее 30 млн. крестьян, а погибло не менее 7 млн. человек. Е. А. Осокина общее число зарегистрированных и незарегистрированных смертей от голода определяет в 6,7 млн. человек (без ГУЛАГА) (Осокина Е. А. Жертвы голода 1933 г. Сколько их? (Анализ демографической статистики ЦГАНХ СССР) — История СССР. – 1991. – № 5.).
Особая ответственность за организацию голодомора ложится на руководителей чрезвычайных комиссий - Кагановича, Молотова, Постышева, а в Казахстане - Голошекина, которые своими действиями показали, что им совершенно чужды были интересы миллионов крестьян, принявших мученическую смерть во имя выполнения нереальных заготовительных планов (Из работ последних лет. см.: Кондрашин В. В. Голод 1932-1933 годов в деревнях Поволжья. // Вопросы истории. – 1991. – № 6; Осокина Е. А. Ук.. соч.; Осколков Е. Н. Ук. соч.; Голод 33. Народная книга — мемориал. – Киев, 1991 и др. К сожалению, в работах историков Украины, изданных к 60-летию этой печальной даты, в их докладах на международной научной конференции «Голодомор 1932-1933 гг. в Украине: причины и последствия» (сентябрь 1933 г.) проявилась тенденция акцентирования особого характера и содержания этих событий в республике по сравнению с другими регионами СССР, проводимого в эти годы целенаправленного геноцида украинского народа, с целью уничтожить украинское село, крестьянство как «носителей национальной идеи», «души нации». Эта концепция, не подкрепленная документами, наиболее полно отражена в послесловии В. А. Маняка в книге «Голод 33» и в статье Л. Капелюшного «Голодомор», опубликованной в газете «Известия» 3 июля; 1993 года. При этом приводятся завышенные в несколько раз данные о жертвах голода на Украине (от 7—8 млн. до 15 млн. человек).).
Картина общекрестьянской трагедии во всех переживших ее регионах по существу была идентичной. Об этом свидетельствуют воспоминания очевидцев и документы, произведения писателей И. Стаднюка, М. Алексеева, В. Гроссмана и др.— первыми приподнявших глухую завесу молчания об этих событиях в нашей стране, работы историков России, Украины и Казахстана, зарубежных исследователей, в частности, Р. Конквеста и С. Максудова.
Пока еще не совсем ясно, является ли голодомор 1932-1933 гг. заранее запланированной и умело организованной Сталиным акцией или же следствием его преступной, антикрестьянской политики («Что касается личной вины самого Сталина, пишет Р. Конквест, то верно, что... мы не можем документально подтвердить его ответственность, то есть не можем подтвердить существование прямого указа, в котором Сталин распорядился бы о введении голода» (Конквест Р. Ук. соч., с. 476).). Но несомненно, что «террор голодом» обусловил значительное ослабление и изменение характера сопротивления крестьян, что не могло не входить в планы Сталина и его окружения.
С осени 1932 г. когда появились первые признаки голода и особенно зимой - весной 1933 г., когда он достиг кульминации, крестьянское движение в районах, охваченных голодом, все больше приобретает характер пассивного сопротивления (порча колхозного имущества, хищения, отказ от работы и т. п.). Но хищения урожая («стрижка колосков») в большинстве случаев совершались голодными людьми, нередко детьми, а на работу многие колхозники не могли выходить из-за ослабления организма, дистрофии, эпидемических заболеваний. Эта ситуация была оценена Сталиным как переход классового врага, прежде всего кулачества, к «новой тактике» - «от прямой атаки против колхозов к работе тихой сапой» (речь «О работе в деревне» на Пленуме ЦК ВКП(б) в январе 1933 г.).
Волна массовых репрессий в период хлебозаготовок 1932 г., жесткое применение закона от 7 августа 1932 г., сделали свое дело. Стало ясно, что политика ликвидации кулачества как класса, основанная на массовых репрессиях, насильственных депортациях крестьян в целом себя исчерпала. Окончательные выводы на этот счет были сделаны в секретной директиве - инструкции Сталина и Молотова от 8 мая 1933 г., направленной всем партийно-советским работникам, оргакам ОГПУ, суда и прокуратуры. 1930-1932 гг. характеризовались в ней как время ожесточенной классовой борьбы в деревне «против кулацких элементов, воров и всякого рода саботажников».
При этом раскрывался «механизм» осуществления репрессий: «Арестовывают председатели сельсоветов и секретари ячеек. Арестовывают районные и краевые уполномоченные. Арестовывают все, кому не лень, и кто, собственно говоря, не имели никакого права арестовывать. Неудивительно, что при таком разгуле практики арестов органы, имеющие право ареста, в том числе и органы ОГПУ, и особенно милиция, теряют чувство меры и зачастую производят аресты без всякого основания, действуя по правилу: «сначала арестовать, а потом разобраться».
В инструкции далее творилось: «Три года борьбы привели к разгрому сил наших классовых врагов в деревне». Там создается «новая благоприятная обстановка», дающая возможность «прекратить, как правило, применение массовых выселений и острых форм репрессий». Наступил момент «когда мы уже не нуждаемся в массовых репрессиях, задевающих, как известно, не только кулаков, но и единоличников и часть колхозников». Местные работники, повинные в совершении беззаконий и кровавых экзекуций, обвинялись в «отклонении от линии партии» и в том еще, что «не поняли новой обстановки», «цепляются за отжившие формы работы».
Авторы инструкции, но существу, признают, что все три года сплошной коллективизации деревню сотрясали непрекращавшиеся выступления крестьянства, отстаивавшего свое право на землю и нормальную жизнь. И только чудовищные репрессии, а потом и голод, невиданный доселе в России по своим масштабам и последствиям, сломали его сопротивление (В то же время вряд ли можно согласиться с утверждением некоторых историков, высказанным, в частности, на международной научной конференции «Менталитет и аграрное развитие России» (Москва, 14—16 июня 1994 г.) о том, что голод 1932—1933 гг. «стал переломным моментом в тысячелетней истории крестьянской России, нанес смертельный удар по крестьянству» (В. В. Кондрашин); стал «концом крестьянского движения в России (т. е. концом реального противостояния крестьянства режиму, а, значит, и концом России как крестьянской страны)» (В.В. Бабашкин). Есть веские аргументы (некоторые из них приводились в выступлениях других ее участников) не подтверждающие такие выводы.).
Есть все основания утверждать, что с завершением сплошной коллективизации в важнейших сельскохозяйственных районах, а по стране в целом «в основном» отчетливо проявился кризис аграрного производства в СССР. Его можно охарактеризовать такими чертами: разрушение основных производительных сил деревни, полная дезорганизация и упадок аграрного производства, «раскрестьянивание» и массовая гибель основных производителей сельскохозяйственной продукции в связи с репрессиями, депортациями, и голодом. Задания первой пятилетки но развитию сельского хозяйства, которые предполагалось значительно превзойти в связи с «великим переломом», ни по одному показателю не были выполнены, причем разрыв был весьма значительный, особенно в животноводстве. Более того, почти по всем показателям (за исключением посевных площадей, производства хлопка и льноволокна) произошло снижение производства по сравнению с 1928 годом. Зато был перевыполнен план (более чем в 3 раза!) обобществления крестьянских хозяйств. Но именно в результате эти «революции и сверху» и произошло катастрофическое падение производства в аграрном секторе экономики.
Резкое сокращение численности живой тягловой силы не компенсировалось поступлением машинной техники. На всем протяжении первой пятилетки общий объем тягловых ресурсов сельского хозяйства (тракторы + рабочий скот) сокращался. К тому же концентрация машинной техники в МТС все больше отделяла колхозы и колхозников от важнейших средств производства, ставила их в прямую зависимость от тоталитарного государства.
При непрерывном сокращении в годы коллективизации валовой продукции сельского хозяйства (со 124% к уровню 1913 г. в 1928 г. до 114% в 1931 г., 107% :в 1932 г. и 101% в 1933 г.) заготовки зерна выросли почти в 2 раза. Этот «феномен» объясняется просто: государство, полностью подчинив себе колхозы, выхолостив в них почти все кооперативное, стало проводить хлебозаготовки по принципу разверстки, методами «военного коммунизма», выгребая нередко из скудных крестьянских амбаров почти весь собранный урожай. В этом— главная причина голодания деревни, неотступно преследовавшего ее почти на всем протяжении сплошной коллективизации, принявшего катастрофические размеры в год ее завершения.
"Революция сверху" привела к гибели миллионов кормильцев огромной страны. По самым скромным подсчетам ее жертвами стали не менее 10 млн. крестьян, что подтвердил и Сталин в ответе на вопрос Черчилля (См. Отечественная история. – 1993. – № 3. – С. 52.). Колоссальный урон сельскому хозяйству, деревне нанесла политика так называемого раскулачивания) А. Н. Яковлев, возглавляющий комиссию по реабилитации репрессированных в годы сталинского режима, охарактеризовал эту акцию как «самое чудовищное преступление, когда сотни тысяч крестьянских семей изгонялись из деревень, не понимая за что им выпала такая судьба, погибель от власти, которую они сами установили» («Реестр смерти», составленный Конквестом, определяет общее число крестьян, ставших жертвами коллективизации (погибшие в результате раскулачивания, от голода, скончавшиеся в зонах и др.), цифрой 14,5 млн. (Коквест Р. УК. соч., с. 445).).

«Искореняли, — считает А. И. Солженицын, — сотни самых трудолюбивых, распорядливых, смышленных крестьян, тех, кто и несли в себе остойчивость русской нации» (Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. В 3 тт. – М.: Книга, 2000. – Т. 3. – С. 243.). Искоренили, по самым минимальным подсчетам, 1,1 — 1,2 млн. (4-5%) крестьянских хозяйств (около 6 млн. человек). Из них 381 тыс. была выслана в отдаленные районы страны, большинство остальных «самораскулачились» — бросив все имущество, перебрались в город (История СССР. – 1990. – № 5. – С. 25 (Расчеты В. П. Данилова). Некоторые авторы (В. Тихонова, Д. Волкогонов, Н. Михайлов и Н. Тепцов) полагают, что число раскулаченных было значительно больше (от 2-х до 5 млн. хозяйств, 10—20 млн. чел., составлявших 8—16% всех крестьянских хозяйств). (См. История СССР. – 1989. – № 3. – С. 6, 29-60; Родина. – 1989. – № 8. – С. 35; Октябрь. – 1988. – № 11. – С. 101).).
Это, так сказать, «внешнее раскрестьянивание» — выбытие по тем или иным причинам (насильственная депортация, бегство в город и т. п.) из состава этого класса. Но было и «внутреннее» — превращение крестьян в колхозников — подневольных работников сельскохозяйственных предприятий полугосударственного типа. Коллективизация разрушила весь уклад деревенской жизни, подрубила социально-экономические и генетические корни не только воспроизводства, но и существования крестьянства как такового.
2.3. «Судьба кулацкой ссылки» (интерпретация В.Н. Земского)
Коллективизация сельского хозяйства в 1929-1933 гг. сопровождалась раскулачиванием части крестьян. Одни из них были отданы под суд, другие выселены в отдаленные районы страны или в ближайшую местность. В данной главе ставится задача показать историю тех крестьян, которые были отправлены на спецпоселения в отдаленные районы или трудпоселения (иначе это называлось «кулацкой ссылкой», или «трудссылкой»). Основное внимание при этом уделено судьбам освобожденных из «кулацкой ссылки» крестьян, когда система подобных ссылок была упразднена в 50-х гг. (Земсков В.Н. Судьба «кулацкой ссылки» (1930-1954). // Отечественная история. – 1994. – № 1. – С. 26.)
В справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛага ОГПУ под названием «Сведения о выселенном кулачестве в 1930-1931 гг.» указывалось, что в это время было отлравлено на спецпоселение 391 026 семей общей численностью 1 803 392 человека) В этом же документе представлена статистика выселенных семей по регионам.
Следует отметить, что в нем встречаются отдельные неточности в статистических выкладках. Общее количество семей, указанных в графе «Регион выселения», составляет не 381 026, а 388 336, т. е. на 7310 больше (последняя цифра почти в точности соответствует числу семей, выселенных из Западной области на Урал). В графе «Куда выселены» общее количество выселенных семей — 388 483, или на 147 больше, чем в графе «Откуда выселены» (цифра 147, безусловно, слагается из 97 семей, выселенных с Украины в Якутию, и 50 — из Нижегородского края в Казахстан). С Украины и из Нижегородского края, следовательно, в 1930—1931 гг. было отправлено на спецпоселение соответственно 67 817 и 9219 семей. (Там же. С. 27.)
До 1934 г. крестьяне, отправленные в «кулацкую ссылку», назывались спецпереселенцами, в 1934-1944 гг.— трудпоселенцами, с марта 1944 г. — спецпереселенцами (с 1949 г. — спецпоселенцами) контингента «бывшие кулаки». Несмотря на то, что и после 1931 г. спецпереселенцы (трудпоселенцы) продолжали поступать в «кулацкую ссылку», численность их была значительно ниже количества направленных туда. Главными причинами этого являлись высокая смертность выселенных крестьян во время транспортировки, в первые годы жизни на спецпоселении и массовые побеги.
Трудовые поселения НКВД были созданы в соответствии с постановлениями СНК СССР от 16 августа 1931 г. (№ 174с), 20 апреля 1933 г. (№ 775/146с) и 21 августа 1933 г. (№ 1796/393с). На ГУЛаг была возложена ответственность за надзор, устройство, хозяйственно-бытовое обслуживание и трудоиспользование выселенных кулаков. По состоянию на 1 июля 1938 г. на учете Отдела трудовых поселений ГУЛага НКВД СССР числилось 997 329 трудпоселенцев, которые проживали в 1741 трудпоселке (с 1944 г. — спецпоселки). (Земсков В.Н. Спецпереселенцы. // СОЦИС. – 1990. – № 11; Он же: «Кулацкая ссылка в 30-е года. // Там же. – 1991. – № 10. – С.31.)
Административное управление осуществляли 150 районных и 800 поселковых комендатур, подчинявшихся отделам мест заключения (ОМЗ) и трудовых поселений УНКВД, а в центре — ГУЛагу НКВД СССР. Весь этот аппарат содержался за счет 5% отчислений с заработной платы трудпоселенцев, занятых в хоэорганизациях (до августа 1931 г. эти отчисления составляли 25%, до февраля 1932 г.— 15%). В 1937 г. на содержание аппарата и административное обслуживание трудпоселений было израсходовано 17 млн. руб., а 5-процентные отчисления от зарплаты трудпоселенцев составляли 27,4 млн. руб. (Там же. С. 32.)
Первые годы пребывания спецпереселенцев в «кулацкой ссылке» были крайне тяжелыми. Так, в докладной записке руководства ГУЛага от 3 июля 1933 г. в ЦКК ВКП(б)и РКИ отмечалось: «С момента передачи спецпереселенцев Наркомлесу СССР для трудового использования в лесной промышленности, т. е. с августа 1931 года, Правительством была установлена норма снабжения иждивенцев — с/переселенцев на лесе из расчета выдачи в месяц: муки — 9 кг, крупы — 9 кг, рыбы - 1,5 кг, сахару — 0,9 кг. С 1 января 1933 года по распоряжению Союзнаркомснаба нормы снабжения для иждивенцев были снижены до следующих размеров: муки — 5 кг, крупы — 0,5 кг, рыбы — 0,8 кг, сахару - 0,4 кг. Вследствие этого положение спецпереселенцев в лесной промышленности, в особенности в Уральской области и Северном крае, резко ухудшилось.
Повсеместно в ЛПХах Севкрая и Урала отмечены случаи употребления в пищу разных несъедобных суррогатов, а также поедания кошек, собак и трупов падших животных. На почве голода резко увеличилась заболеваемость и смертность среди с/переселенцев. По Чердынскому району от голода заболело до 50% с/переселенцев... На почве голода имел место ряд самоубийств, увеличилась преступность... Голодные с/переселенцы воруют хлеб и скот у окружающего населения, в частности, у колхозников... Вследствие недостаточного снабжения резко снизилась производительность труда, нормы выработки упали в отдельных ЛПХах до 25%. (Там же. С. 33-34.)
Истощенные спецпереселенцы не в состоянии выработать норму, а в соответствии с этим получают меньшее количество продовольствия и становятся вовсе нетрудоспособными. Отмечены случаи смерти от голода с/переселенцев на производстве и тут же после возвращения с работ...».
Особенно велика была детская смертность. В докладной записке Г. Г. Ягоды от 26 октября 1931 г. на имя Я. Э. Рудзутака отмечалось: «Заболеваемость и смертность с/переселенцев велика... Месячная смертность равна 1,3% к населению за месяц в Северном Казахстане и 0,8% в Нарымском крае. В числе умерших особенно много детей младших групп.
Так, в возрасте до 3-х лет умиряет в месяц 8-12% этой группы, а в Магнитогорске — еще более, до 15% в месяц. Следует отметить, что в основном большая смертность зависила не от эпидемических заболеваний, а от жилищного и бытового неустройства, причем детская смертность повышается в связи с отсутствием необходимого питания». (Красильников С.А. Крестьянские депортации и система управления спецпоселениями в Западной Сибири в 1930-е гг. // Сб.: Проблемы истории местного управления Сибири XVII-XX веков. – Новосибирск, 1996. – С. 248.)
У вновь прибывавших в «кулацкую ссылку» показатели рождаемости и смертности всегда были значительно худшими, чем у «старожилов. Например, по состоянию на 1 января 1934 г. в составе 1072546 спецпереселенцеп значилось 955893 поступивших в «кулацкую ссылку» в 1929-1932 гг. и 116 653 — в 1933 г. Всего за 1933 г. в «кулацкой ссылке» родилось 17 082 и умерло 151 601 человек, из них на «старожилов» пришлось соответственно 16539 родившихся и 129800 умерших, на «новоселов» — 543 и 21 801. Если среди «старожилов» в течение 1933 г. смертность была выше рождаемости в 7,8 раза, то среди «новоселов» — в 40 раз. (Земсков В.Н. Судьба «кулацкой ссылки» (1930-1954). // Отечественная история. – 1994. – № 1. – С. 29.)
К 1935 г. крестьяне в массе своей относительно обжились в местах высылки, и показатели рождаемости превысили показатели смертности. На севере Западной Сибири в 1935 г. трудпоселенцы размещались в 16819 жилых домах и 295 утепленных бараках, однако 12% проживало еще в землянках и полуземлянках.

В июле 1938 г. 128 148 трудпоселенцев, восстановленных в избирательных правах до 1935 г., не имели ограничений в выборе профессий и не учитывались по трудоиспользованию. Остальные (869 191 трудпоселенец: 247 961 мужчина, 261 774 женщины, 69267 подростков от 14 до 16 лет и 290 189 детей до 14 лет) были распределены в следующих отраслях народного хозяйства (отсутствовали сведения на 10 099 человек): в тяжелой промышленности — 354 311, в лесной -165405, в артельном сельском хозяйстве - 162 225, в системе Наркомземп -32023, в Белбалткомбинате НКВД — 28 083, в системе Наркомпищепрома - 20298, в системе Наркомата путей сообщения на лесе - 18 196, в совхозах Наркомата совхозов и Наркомзема - 16505, в легкой и местной промышленности - 7886, в системе Главного управления Севморпути — 3076, в трудколониях НКВД — 2691, в прочих организациях — 44 722; в детских и инвалидных домах находился 3471 человек. Из всего этого контингента на работах был мнят 355301 человек. Кроме того, 59043 трудпоселенца считались трудоспособными, но по каким-то причинам не работали.
По данным на 1 января 1938 г., в народном хозяйстве было занято 353912 трудпоселенцев, из них 16 818 трудилось в золотодобывающей промышленности; 37 360 — в угольной; 88 133 — в металлургической, машиностроительной, химической, рудной и вагоностроительной; 63 296 — в лесной, 5166 — в системе Наркомлегпрома и Наркомместпрома РСФСР, в текстильной и других отраслях промышленности, в коммунальных предприятиях и кустарных промыслах; 19 105 -в совхозах Наркомзема и Наркомата совхозов СССР, преимущественно на обработке хлопка и в животноводстве; 9055 — в пищевой промышленности Наркомпищепрома СССР, преимущественно на свеклосахарных предприятиях и хладобойнях; 28 212 — в разных мелких хозяйственных организациях и в кустарной кооперации; 12 483 — в Белбалткомбинате НКВД, преимущественно на лесоразработках, и 73 634 человека — в сельском хозяйстве неуставных трудпоселенческих артелей.
По данным на 1 января 1938 г., для ведения сельского хозяйства трудпоселенцев было отведено 3035644 га земельных угодий, из них 1 128 194 га — под пахоту, 287431 га — под сенокос, 590789 — пастбищных, 44914 — усадебных земель и 984 316 га — лесов и прочих земель. К 1938 г. под посевы было освоено 466 363 га, под сенокосы — около 1,1 млн. га лугов и частично пахотных земель. Всего к началу 1938 г. под посевы, сенокосы и пастбища, а также под индивидуальные усадебные участки было освоено 2 202 066 га земель.
Глава 3. Правовое положение спецпереселенцев
3.1. Социально-правовой статус спецпереселенцев в отечественной историографии
Традиционная советская историография обошла вниманием вопросы определения и эволюции социально-правового статуса спецпереселенцев в сталинском обществе. Достаточно было стереотипных упоминаний о том, что, будучи «кулаками», «эксплуататорами», верхи крестьянства подвергались (в рамках советского законодательства) различным ограничениям, прежде всего лишались избирательных прав, становясь «лишенцами».
«Лишенцами» они попадали в спецпоселения, где при определенных условиях могли быть восстановлены в избирательных правах, сняты со специального учета. Конституцией 1936 г. «бывшие кулаки» были уравнены в правах со всеми гражданами страны.(См., напр.: Гущин Н. Я., Ильиных В. А. Классовая борьба в сибирской деревне. – Новосибирск, 1987. – С. 279-281.)
В ряде публикаций акция 1936 г. по восстановлению части трудпоселенцев в избирательных правах рассматривалась как логическое звено политики советской власти «по трудовому перевоспитанию бывших кулаков» (Шуклецов В. Т. Из истории экспроприации и трудового перевоспитания кулачества в Сибирском крае. // Из истории партийных советских организаций в Сибири и Урале. // Вопросы истории. – 1964. – № 11. – С. 64.).
Смена исторической парадигмы на удивление мало что изменила или добавила к стереотипной трактовке статуса «раскулаченных». В современной исследовательской литературе в связи с данным вопросом, как правило, лишь констатируется господство хаоса, безответственности и правового беспредела в отношении к выселяемым хозяйствам.
Поэтому удивление вызывает заглавие одного из разделов его монографии — «Хозяйственное устройство спецпереселенцев и их правовое положение». Очевидно, что историк здесь впал в логическое противоречие, поскольку правовое положение исключает бесправие и наоборот. На наш взгляд, в этом проявилось влияние на исследователя духа и буквы источников сталинской эпохи: зачастую он, сам об этом не подозревая, начинает воспроизводить подходы сталинского политического режима.
Очевидно, анализируя данный предмет - характеристики, определяющие статус спецпереселенцев, следует либо закавычивать словосочетание «правовое положение», либо рассматривать проблему правовых ограничений и дискриминаций, которым сталинский режим подвергал репрессированных крестьян.
В рамках такого подхода написано несколько работ, среди которых следует выделить статьи уральских историков. Так, Т. И. Славко справедливо акцентирует внимание на том, что часть крестьянства («лишенцы») подвергалась всевозможным гражданским, экономическим и политическим дискриминациям еще до своей высылки.
В момент самой репрессии, как правило, сознательно стирались грани между сельскими «лишенцами» и «кулаками», и это был следующий виток «правового беспредела» в деревне 1930—1931 гг. Обоснован и ее вывод о том, что «спецпереселенцы, попавшие в кулацкую ссылку, практически лишались гражданских прав» (Славко Т. И. Раскулачивание. // ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. – Франкфурт/Майн. – М., 1999. – С. 133, 134, 148.).
Заслуживает быть отмеченной единственная пока в своем роде работа пермского историка А.Б. Суслова, в которой выясняются «некоторые особенности социального и правового статуса» т. н. спецконтингента (Суслов А. Б. Спецконтингент советского тоталитарного общества: некоторые особенности социального и правового статуса (на примере Пермской области). // Права человека в России: прошлое и настоящее: Сб. докладов и материалов научно-практической конференции. – Пермь, 1999. – С. 42-60.).
Исследователь сделал новаторскую попытку определить место каждой группы внутри «спецконтингента» в соответствии со степенью зависимости (несвободы): «заключенные — проходящие фильтрацию — военнопленные — спецпереселенцы - трудармейцы». А.Б. Суслов отмечает, что спецпереселенцы, хотя формально и обладали всеми правами граждан СССР, кроме свободы передвижения, изначально не имели избирательных прав, а это влекло за собой множество различного рода ограничений.
Фактически же спецпереселенцы были лишены свободы как таковой, что сближало их с заключенными (обязательность принудительного труда, удерживание средств на содержание репрессивного аппарата и т. д.). «Спецпоселенцы, - отмечает историк, - так же, как и заключенные, находились на волюнтаристски изменяемом правовом поле, где ведомственные инструкции карательных органов были весомее актов высших органов государственной власти».
А. Б. Сусловым сделан также принципиальный вывод о том, что статусные (социально-экономические и правовые) характеристики положения заключенных и спецпереселенцев на протяжении 1930-х гг. существенно изменились: «В начале 30-х годов спецпереселенец явно стоял на нижней ступеньке советской общественной иерархии.
Заключенный <...> все же имел стабильный и физиологически удовлетворительный паек, одежду и жилье, а также пользовался своими лагерными "правами". К концу 30-х годов положение изменилось. Спецпоселенцы теперь уже могли пользоваться некоторыми ранее ограниченными гражданскими правами, да и материальное положение их улучшилось, по сравнению с лагерниками».
3.2. Фактический анализ правого поля в отношении спецпереселенцев
Фактический анализ проблемы правового поля, границы которого власть произвольно изменяла для репрессированных и высланных крестьян, следует предварить краткой характеристикой лишения избирательных прав и его последствий. «Лишенчество» было частью разветвленной системы ограничительно-дискриминационных мер, которые большевистская власть направляла против самых разных категорий и групп постреволюционного общества.
Согласно ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г., насчитывалось семь категорий граждан, не имевших права избирать и быть избранными в Советы всех уровней. К этим категориям относились лица, использующие наемный труд, живущие на нетрудовые доходы, торговцы и посредники, бывшие офицеры, военные чиновники, чины полиции, осужденные по суду и т. д. Лишение избирательных прав выполняло несколько функций.
Эта мера была направлена на предотвращение возможного усиления позиций и влияния в обществе тех или иных групп, потенциальных или реальных противников большевиков; искусственное переструктурирование общества путем деления общества на «своих» и «чужих»; привлечение социальных низов к осуществлению мер ограничительно-дискриминационного характера (эффект соучастия); поддержание в обществе психологии агрессии в отношении «бывших» — привилегированных в прошлом сословий и групп.
Наконец, лишение избирательных прав являлось своего рода прологом к прямым массовым репрессиям, поскольку относительно неплохо поставленные к концу 1920-х гг. учет и контроль над «лишенцами» позволял без особого труда выявить объект для карательных операций.
Становясь «лишенцами», люди теряли социальные перспективы в советском обществе (большинство не имело шансов на восстановление в правах), причем этот статус наследовали все члены семей, в т. ч. иждивенцы, они оказывались объектами применения разных форм дискриминаций и ограничений. Насчитывалось более десяти ограничений — увольнение с работы, исключение из профсоюзов, кооперативов и других общественных организаций, исключение детей «лишенцев» из средних и высших учебных заведений и т. д.
Получение статуса «лишенца-кулака» для сельских жителей означало прежде всего значительное увеличение налогов, в т. ч. военного, поскольку детей «лишенцев» в 1920-е гг. не призывали в кадровую Красную армию. Кроме того, с конца 1920-х гг. стали возрастать размеры повинностей (трудовые, гужевые), связанные с ремонтом дорог, лесозаготовками и т. д., которые налагались на «лишенцев-кулаков».

С началом массовой депортации крестьянских хозяйств (февраль 1930 г.) деревня оказалась погруженной в правовой беспредел. Его характерным проявлением было причисление к разряду «кулаков» представителей фактически всех категорий «лишенцев», проживавших в сельской местности, — и бывших белых офицеров, и священнослужителей, и торговцев, и некогда осужденных по суду.
Основной на тот момент официальный (и при этом секретный) документ инструктивного характера «О мероприятиях по выселению и раскулачиванию кулаков, конфискации их имущества», принятый ЦИК и СНК СССР 4 февраля 1930 г., имел исключительно репрессивно-конфискационную направленность. В нем шла речь не о каких-либо правах экспроприируемых крестьян, а об установлении норм денежных средств, продовольствия, предметов домашнего обихода, которые могут оставаться у «лишенцев». Единственный пункт инструкции, отдаленно имевший отношение к праву выбора места жительства, гласил: «4. Члены семей выселяемых кулаков могут при своем желании и при согласии на это районных исполнительных комитетов оставаться временно или постоянно в прежнем районе (округе)» (Спецпереселецы в Западной Сибири. 1930 – весна 1931 г. – Новосибирск, 1992. – С. 22.).
С самого начала этой карательной акции стала очевидной ее двусмысленность с точки зрения существовавшего, в частности, уголовного законодательства, в котором не были прописаны массовые принудительные переселения. Так, согласно букве закона, государственные репрессии делились на два больших блока — лишение свободы (заключение в тюрьмы, колонии и лагеря), а также высылка и ссылка в административном и судебном порядке. Эти репрессии имели весьма подробную правовую регламентацию и свои сроки. Так, высылка и ссылка до 1930 г. не могли превышать пяти лет.
Формально депортация крестьян могла считаться ссылкой, поскольку «раскулаченные» доставлялись принудительным путем в конкретные районы на поселение под надзор карательных органов без права выезда из них. Однако эта ссылка была экстраординарной и не подпадала под определение классической, поскольку крестьяне ссылались семьями, включая грудных детей и глубоких стариков; не были определены сроки пребывания на поселении.
Иначе говоря, требовалось законодательно оформить карательную практику соединения бессрочной ссылки на поселение с принудительными работами. Но на это советское руководство не решилось. Выход из создавшейся ситуации компромиссный и паллиативный — был найден: с середины 1930 г. депортацию стали называть спецпереселением, а «раскулаченных» и высланных «кулаков 2-й категории» - спецпереселенцами.
Спецпереселение не считалось законодательно прописанной карательной акцией и, соответственно, не требовало уточнения или введения новых статей в репрессивное законодательство; оно квалифицировалось как особая форма переселения с применением для «раскулаченных» ряда правовых ограничений. Самая массовая со времен окончания гражданской войны карательная акция в правовом отношении ничем не была подкреплена, хотя коснулась только в 1930—1931 гг., по самым минимальным подсчетам, более 1,6 млн чел. Для сравнения отметим, что лагерный контингент насчитывал в это время около 200 тыс. чел. Разработка и принятие правительством положения об исправительно-трудовых лагерях продолжались с лета 1929 до весны 1930 г.
Трагедия спецпереселенцев была в том, что формально они не считались репрессированными и не лишались свободы, но фактически являлись таковыми, поскольку утрачивали гражданское право (поражение в избирательных правах) и право на передвижение (запрещение покидать спецпоселки).
Доминантой всех последующих документов нормативного характера, появившихся весной—летом 1930 г., было установление предельно возможной регламентации (ограничения, запреты, обязанности) поведения и деятельности репрессированных крестьян. «Сверху» определялись места поселения «кулаков», размеры поселков по количеству дворов, нормы земельных наделов, сельхозугодий и т. д.
Устанавливались прямые дискриминационные меры для «расселяемых» в пределах того или иного региона хозяйств. В постановлении коллегии Наркомзема РСФСР от 1 апреля 1930 г., направленном местным земорганам, указывалось: «При отводе с/х угодий для поселков с кулацкими хозяйствами необходимо учесть, что земли должны быть худшего качества».
В документах, исходящих из властных органов, можно встретить отдельные положения, которые имели опосредованное отношение к статусу репрессированных крестьян, поскольку носили разрешительный характер.
Так, 10 апреля 1930 г. в принятом СНК РСФСР постановлении «О мероприятиях по упорядочению временного и постоянного расселения высланных кулацких семей» предлагалось «Прокуратуре Республики организовать порядок апелляции и срочное рассмотрение жалоб на неправильное раскулачивание и высылку». Иначе говоря, крестьянам давалось право на обжалование репрессии, но только после того, как высылка становилась свершившимся фактом.
«Мягкие» решения, принимавшиеся созданными в связи с крестьянской высылкой правительственными комиссиями, быстро корректировались «сверху» в дискриминационном духе. Так, радикальному изменению подверглось положение об оплате труда выселенных. Если постановление комиссии В. В. Шмидта от 5 апреля 1930 г. гласило, «что в случаях, когда выселенные кулаки привлекаются в качестве рабочей силы, оплата труда их должна быть одинакова со всеми остальными, занятыми на этих работах рабочими», то постановление СНК СССР от 5 мая 1930 г. эту норму перечеркивало: «Установить, что в случаях, когда выселенные кулаки привлекаются в качестве рабочей силы, оплата труда их должна быть на 20 — 25 % ниже по сравнению с занятыми на этих работах рабочими и законы о социальном страховании на них не распространяются» (Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы в пяти томах. 1927-1939. – Т. 2: Ноябрь 1929 – декабрь 1930. – С. 40.).
Летом 1930 г., когда сеть спецпоселков стала реальностью и потребовались инструктивные указания «по управлению кулацкими поселками 2-й категории», Сибирская краевая комиссия «по расселению и устройству кулаков» в разделе «общие положения» зафиксировала положение спецпереселенцев в следующем виде: «Население кулацких поселков 2-й категории не обладает избирательными правами, лишено прав самоуправления, управляется комендатурами <...>» (Спецпереселецы в Западной Сибири. 1930 – весна 1931 г. – Новосибирск, 1992. – С. 198.) Со временем репрессивная практика потребовала дальнейшей регламентации «прав и обязанностей спецпереселенцев», и с 1931 г. в регионах наиболее значительной концентрации спецпоселков стали разрабатываться соответствующие документы.
В Положение о спецпереселенцах, принятое 31 марта 1931 г. Уральским облсоветом, был включен раздел о «правовом положении спецпереселенцев», некоторые пункты которого однозначно определяли статус последних: «1. Спецпереселенцы как лица, лишенные избирательных прав и административно-сосланные, ограничиваются в правах, как личных, так и имущественных.
2. Личные ограничения в правах состоят в:
а) лишении прав передвигаться и селиться по собственному усмотрению;
б) лишении права собраний без разрешения поселковых комендантов <...>
Спецпереселенцам никаких удостоверений и видов на жительство не выдается, за исключением личной книжки установленного образца и пропуска на временные отлучки».
25 октября 1931 г. руководством ГУЛАГа было представлено и Г. Г. Ягодой утверждено типовое «Временное положение о правах и обязанностях спецпереселенцев, об административных функциях и административных правах поселковой администрации в районах расселения спецпереселенцев» (Спецпереселецы в Западной Сибири. 1930 – весна 1931 г. – Новосибирск, 1992. – С. 68-76), которое действовало на протяжении 1930-х гг. Обращает на себя внимание последовательность расположения разделов внутри документа: «Обязанности спецпереселенцев» в нем предшествовали «Правам». В разделе «Права спецпереселенцев» говорилось:
«1. Все спецпереселенцы и их семьи, точно соблюдавшие установленные для них правила и добросовестно относящиеся к порученной им работе, имеют право на полное восстановление их во всех гражданских правах через пять лет со дня переселения.
2. Все спецпереселенцы и их семьи, занятые на любой работе, в вопросах оплаты их труда и снабжения продовольствием и товарами приравниваются к вольнонаемным рабочим. Все работающие по найму получают на руки расчетные книжки, куда записываются их заработки.
Примечание: с заработка спецпереселенцев работодатели удерживают 15 % на расходы, связанные с административным обслуживанием спецпереселенцев.
3. Спецпереселенцы и их семьи имеют право на медицинскую и социальную помощь:
а) спецпереселенцам и членам их семей медпомощь оказывается бесплатно в местных и специально организованных лечучреждениях;
б) за работающих по найму спецпереселенцев вносятся страхначисления в общем порядке. Спецпереселенцы имеют право на получение через органы соцстраха пособия по временной утрате трудоспособности, пенсий на рождение и погребение на одинаковых с вольнонаемными рабочими (не членами профсоюза) основаниях;
в) беспризорным сиротам, а также старикам-инвалидам, не имеющим родственников, оказывается социальная помощь (помещение в интернаты или патронирование) местными органами НКЗдрава, НКПросаи НКСобеса по принадлежности.
4. Спецпереселенцы и их члены семей имеют право на прием в местные школы, курсы и т. д. на одинаковых условиях с вольнонаемными.
Примечание: при отсутствии или недостаточности в пунктах расселения местных школ для детей организуется дополнительная специальная сеть.
5. Спецпереселенцы и их семьи имеют право и должны пользоваться всеми общественными формами наилучшей организации труда, поднятия производительности труда и улучшения качества продукции (бригадный и артельный методы работы, соревнование, ударничество и т. д.).
6. Спецпереселенцы и их семьи имеют право с предварительной санкции комендатуры ОГПУ внутри поселков создавать культурно-просветительные организации (кружки самообразования, кружки различных искусств и санитарные кружки).
7. Спецпереселенцы и их семьи с предварительного разрешения комендатуры ОГПУ имеют право собираться по вопросам культурно-просветительного характера, вопросам соревнования и ударничества и вопросам общественно-бытового порядка в поселках.
Примечание: всякие общественные собрания спецпереселенцев проводятся представителем комендатуры ОГПУ и все решения этих собраний являются действительными только по утверждении их комендатурой ОГПУ.
8. Спецпереселенцы и их семьи пользуются неограниченным правом получения и приобретения газет и всякой литературы, издающейся в СССР.
9. Спецпереселенцы и их семьи пользуются неограниченным правом обмена всякого рода корреспонденцией, посылками и денежными переводами.
10. Спецпереселенцы и их семьи имеют право возведения для себя за свой счет жилых домов и служб, а также приобретения всякого имущества личного обихода, скота и инвентаря.
11. Спецпереселенцы имеют право через комендатуры ОГПУ передавать своим родственникам и знакомым на воспитание и иждивение детей в возрасте до 14 лет и нетрудоспособных стариков-старух».
Приведенный выше перечень фактически отражает не права спецпереселенцев как таковые (гражданские, социальные, трудовые и т. д.), а разрешение властей на то, что в обычных условиях ни ограничений, ни разрешений не требовало. Безусловно, ключевым являлось обещание предоставить спецпереселенцам право на восстановление в гражданских правах по истечении пяти лет работы на спецпоселении. Однако это было потенциальной, но отнюдь не реальной правовой нормой, по крайней мере для первой половины 1930-х гг.
Оговоренное в документе равенство спецпереселенцев в оплате труда и снабжении с вольнонаемными рабочими сводилось к нулю примечанием об удержании у них 15 % заработка. Реализовать право на получение медицинской и социальной помощи, в т. ч. пособий, спецпереселенцы не могли, поскольку не являлись членами профсоюзов.
Право детей «лишенцев» учиться в местных школах существовало наряду с ограничениями на получение образования от среднего и выше. Все остальные т. н. права (получение газет, посылок, корреспонденции, приобретение «для себя за свой счет» имущества, скота, инвентаря и т. д.) в обычном правовом поле к разряду прав отнести было бы нельзя. Однако особенно неординарным «правом» следует считать разрешение спецпереселенцам передавать своим родственникам на воспитание и иждивение детей, а также нетрудоспособных и инвалидов — членов семей.
Таким образом, правильнее анализировать не «правовое положение» спецпереселенцев, а режимное, дискриминационно-ограничительное пространство, в котором они пребывали на спецпоселении и внутри которого «права» на деле являлись смягчением либо отменой ранее введенных ограничений или дискриминаций. Сказанное можно проиллюстрировать достаточно стандартной для начала 1930-х гг. ситуацией: директивные органы вынуждены были «поправлять» местные органы в тех случаях, когда речь шла о заведомо дискриминационных актах в отношении спецпереселенцев.
Так, п. 10 проекта постановления ЦК, внесенного в Политбюро комиссией Андреева 28 июля 1931 г., гласил: «Ввиду наличия на местах случаев, когда хозяйственные и другие организации дают спецпереселенцам как для глав семьи, так и для молодежи, заведомо непосильные нормы выработки, превышающие нормы выработки вольных, ЦК предлагает хозорганам немедленно это устранить, давая спецпереселенцам такие же нормы выработки, какие даются рабочим» (Адибеков Г.М. Спецпереселенцы – жертвы «сплошной коллективизации». // Исторический архив. – 1994. – № 4. – С. 164.).
В п. 5 предложения той же комиссии, внесенного в Политбюро 7 августа 1931 г., было записано: «Отменить решения местных органов, запрещающих организацию огородных хозяйств спецпереселенцами, занятыми в промышленности». В п. 23 указывалось: «Ввиду имевших место случаев отказа в приеме в школу детей спецпереселенцев, указать крайкомам и обкомам, что дети спецпереселенцев там, где специальных школ для обучения детей спецпереселенцев не построено и не строится, должны обучаться в существующей сети школ НКПроса на общих основаниях».
Пункт 26 обязывал Центросоюз «снабжать спецпереселенцев на общих основаниях и по нормам соответствующих категорий рабочих и трудящихся и членов их семей». Согласно п. 36 Наркомсобес был обязан «дать немедленно на места указания принять в свои инвалидные дома нетрудоспособных и не имеющих помощи от родственников — стариков спецпереселенцев».
В ряду предложений, выработанных 7 августа 1931 г. комиссией Политбюро по спецпереселенцам, были и такие, которые нацеливали в перспективе на выделение в составе репрессированного крестьянства категории с особым «правовым» положением. Впервые об этом комиссия Андреева заговорила 15 мая 1931 г., предложив ОГПУ акцентировать внимание на молодежь, «ставя ее в особые условия <...> и не распространяя того строгого режима, который распространяется на главу семьи».
В документе Политбюро эта установка начинала обретать директивные формы. Пункты, намечавшие «молодежную» политику, предусматривали: «31. Учитывая необходимость скорейшего отрыва молодежи спецпереселенцев от контрреволюционной части кулачества признать возможным восстановление в правах молодежи, достигшей 18-летнего возраста, до истечение 5-лет[него] срока в тех случаях, когда эта молодежь проявила себя с положительной стороны. Подобные восстановления проводятся отделами по с/п через ЦИК, и Союзных и Автономных республик, или краевые и областные исполкомы, с предоставлением им права свободного проживания.
32. Провести следующие мероприятия по отрыву молодежи от контрреволюционного влияния кулаков-стариков:
а) создавать особые молодежные бригады на производстве;
б) вовлекать молодежь на производстве и в сел[ьском] хозяйстве в трудовое соревнование;
в) прикреплять к молодежным бригадам политруков в целях вовлечения молодежи в политпросветительную работу;
г) разрешить досрочное освобождение молодежи из спец. поселков за ударную работу и перевыполнение производственных заданий;
д) ввести первоочередное снабжение молодежи литературой;
е) организовать среди молодежи кружки по получению и повышению квалификации, спортивные и другие».
В разработанной той же комиссией и утвержденной 30 августа 1931 г. Политбюро «Инструкции о порядке дальнейшего выселения кулацких семей» намеченная выше линия получила дополнительное развитие. При перечислении категорий, выселение которых категорически запрещалось (семьи бывших красных партизан, красноармейцев и др.), отмечалось: «Запретить также выселение молодежи из состава кулацких семей, которая занята самостоятельным трудом и не имеет тесной связи с семьей или порвала с ней».
Выше рассматривались директивные документы, регламентировавшие положение спецпереселенцев на самом высоком уровне — законодательном. Однако на практике исполнение директив обеспечивалось нормативными документами (ведомственные указания — директивы, циркуляры, приказы, инструкции и т. д.), исходившими от карательного аппарата — ОГПУ—НКВД. Именно фильтры ведомственных установок и разъяснений создавали то самое режимное поле, в котором существовали спецпереселенцы 1930-х гг.
Обращает на себя внимание то, что карательные структуры объективно оказались в роли регулятора трудовых отношений, надзирателя за соблюдением трудового законодательства хозяйственными органами, использовавшими (точнее — эксплуатировавшими) труд репрессированных крестьян. В циркулярном письме ОГПУ местным полпредствам от 21 июля 1931 г. приводился весьма подробный перечень «ненормальностей» в отношениях между хозорганами и спецпереселенцами:
«1. В большинстве договора с промышленными предприятиями и сельхозорганизациями не заключены. Имеющиеся договора в достаточной мере не обеспечивают их жилищное и бытовое устройство, лечебную помощь, культурное обслуживание, снабжение продовольствием.
2. Наблюдается нерациональное использование хозорганизациями рабсилы из спецпереселенцев, отсутствие стимулов к поднятию ими производительности труда. Часть трудоспособных вовсе не используется.
3. Для подростков, нетрудоспособных, беременных женщин зачастую устанавливаются одинаковые нормы со здоровыми мужчинами. В некоторых местах нормы для спецпереселенцев увеличились вдвое по сравнению с вольнонаемными рабочими. Обессиленные подобным от ношением спецпереселенцы выбывали из строя.
4. Во многих местах до сего времени не введены в систему расчетные книжки, зарплата своевременно не выдается, работающих обсчитывают и т. д.
5. В некоторых местах вместо 25 % удерживают 27 % с зарплаты спецпереселенцев.
6. Земфонды под огородные и другие культуры в большинстве не выделены, а там, где выделены, - освоение происходит крайне медленно, вследствие отсутствия помощи и содействия. Отпущенные Наркомземом РСФСР средства на сельхознужды полностью не реализованы.
Эти ненормальности служат тормозом для прочного оседания спецпереселенцев, создают у них впечатление временного пребывания на новых местах и, кроме того, всю тяжесть снабжения возлагают на государство.
7. Жилищные условия спецпереселенцев крайне тяжелы и неудовлетворительны. В качестве постоянных жилищ существуют бараки, в которых живут семьи при исключительной скученности (на Урале есть случай, когда на площади в 100 кв. м живут 400 чел.), ютятся с детьми в шалашах и всяких иных примитивных помещениях без окон, печей.
Некоторые хозорганизации доходят до того, что не предоставляют спецпереселенцам свои пустующие помещения, расположенные вблизи густонаселенных бараков.
8. При таких тяжелых жилищных условиях к тому же отсутствуют санитарные мероприятия. Бани не везде оборудованы. Медпомощь не
достаточна.
9. Культурно-воспитательная работа почти не ведется, работе среди молодежи не уделено должного внимания. Зафиксированы факты, когда детям спецпереселенцев отказывают в учении, из школы ликбеза выгоняют спецпереселенцев.
10. Администрация поселков (коменданты и охрана) в большинстве не соответствует своему назначению. Налицо факты сращения с кулаками.
11. У ряда хозяйственников существует мнение, что о спецпереселенцах заботиться нет надобности и что к ним надо применять какие-то особые повышенные производственные нормы. В районах даже у некоторых партийных работников существует такое же убеждение».
От полпредов ОГПУ в местах дислокации спецпоселков директива требовала добиваться от хозяйственных органов в отношении спецпереселенцев «применения существующих правил Наркомтруда», «за обсчитывание привлекать к ответственности» и т. д. В целях усиления воздействия на местных хозяйственных и партийных работников, «не понимающих» «установок партии по отношению к спецпереселенцам», руководство ОГПУ рекомендовало крайкомам и обкомам партии издавать соответствующие директивы.
Значительный объем межведомственной переписки до известной степени способен представить ОГПУ—ГУЛАГ—СибЛАГ в роли поборника и заступника спецпереселенцев: здесь и требования об ускорении жилищно-бытового строительства в комендатурах, и меры по обеспечению комендатур медицинским и культурным обслуживанием, и выявление фактов издевательства работников хозорганов над спецпереселенцами, и наказание функционеров (в т. ч. СибЛАГа), виновных в должностных преступлениях по отношению к спецпереселенцам, и т. д.

Однако за всем этим скрывались жесткие корпоративные интересы карательно-репрессивных структур. Договора об использовании труда «контингента» спецпоселений, заключавшиеся ГУЛАГом-СибЛАГом с хозяйственными ведомствами, являлись результатами согласования интересов этих двух сторон за счет третьей - спецпереселенцев. Последние воспринимались договаривающимися сторонами не более как «рабсила», дешевый и быстро восполняемый ресурс, аналогичный инвентарю или рабочему скоту.
Стиралась грань, разделяющая, скажем, договора СибЛАГа с Лестрестом о предоставлении для работы в леспромхозах нескольких тысяч семей спецпереселенцев и того же СибЛАГа с ведомством Союзконь о поставке нескольких тысяч лошадей в северные комендатуры. СибЛАГ был напрямую экономически заинтересован в рациональном использовании труда спецпереселенцев — с заработка последних в пользу СибЛАГа отчислялось от 15 (осень 1931 г.) до 5 % (с 1932 г.). Имел свое объяснение и жесткий контроль ГУЛАГа—СибЛАГа за расходованием хозорганами денежных средств и промышленных и производственных фондов и товаров, отпускаемых централизованно и целевым назначением для нужд спецпереселенцев.
Совершенно очевидно, что при разбазаривании и «обезличке» этих средств и фондов условия труда и быта спецпереселенцев ухудшались, возрастали заболеваемость и смертность, дезорганизовывался внутренний распорядок комендатур, усиливались бродяжничество, побеги. Поэтому контроль за созданием для спецпереселенцев минимально достаточных условий труда и жизни для работников комендатур и руководства СибЛАГа был средством поддержания собственного корпоративного положения и благополучия.
Существовало, однако, коренное противоречие, не позволявшее уравновесить интересы репрессивных и хозяйственных структур в отношении спецпереселенцев. Поставив вчерашних крестьян в положение сосланных, неправовых граждан, невозможно было требовать от хозяйственных работников всех уровней относиться к ним в оплате и охране труда, снабжении и т. д., как к вольнонаемным.
К тому же местные работники видели многочисленные проявления режима, который усилиями аппарата комендатур в спецпереселенческих поселках становился аналогичным лагерному. Не случайно, что в ходе обследования комендатур представители органов КК—РКИ, разбиравшиеся в межведомственных конфликтах между ГУЛАГом и хозорганами, обнаруживали факты преступного отношения к спецпереселенцам не только работников хозорганов, но и комендатур.
Таким образом, противоречия были налицо: спецпереселенцы не являлись заключенными, лишенными свободы на определенный срок, но и не были свободными; их труд, фактически принудительный, должен был оплачиваться по стандартам вольнонаемного труда. Естественно, что на практике все значительно упрощалось, правовая дискриминация влекла за собой дискриминацию в оплате по труду, в бытовом положении и т. д.
Там же, где система ГУЛАГа действовала внешне гуманно, бытовали по сути те же прагматические подходы к судьбам спецпереселенцев. Акция 1931—1932 гг. по переводу глав семейств, находившихся в тюрьмах и лагерях, в спецпоселения для воссоединения с находившимися в комендатурах семьями явилась осмыслением последствий 1930 г., — разъединение семей повлекло за собой повышенную смертность и побеги. Разрешение с 1931 г. с ведома ОГПУ родственникам брать из комендатур на свое иждивение нетрудоспособных (детей, инвалидов, стариков) избавляло ГУЛАГ от необходимости тратить средства на содержание «контингента». Позволение заключать браки между спецпереселенцами и «правовым населением» также не было показателем мягкости режима пребывания, поскольку это не влияло на изменение статуса спецпереселенцев.
Остановимся на том, как ГУЛАГ выступал в роли регулятора семейно-брачных отношений. В циркулярном письме ГУЛАГа «О порядке заключения браков спецпереселенцев с лицами, не лишенными гражданских прав», которое направлялось в августе 1931 г. местным отделам и инспекциям по спецпереселенцам, говорилось: «Со стороны некоторых местных органов ОГПУ поднят вопрос о возможности допущения браков спецпереселенцев с вольными гражданами.
Принимая во внимание, что лишение гражданских прав и права свободного выбора местожительства спецпереселенцами не может служить основанием к запрещению их вступать в браки с вольными гражданами, браки спецпереселенцев с вольным населением разрешаются и ограничений в этом отношении не должно быть.
Для ориентировки разъясняем:
Браки спецпереселенцев с вольными гражданами регистрируются в ЗАГСах обычным существующим порядком.
Фактом вступления в брак с вольными гражданами спецпереселенцы не снимают с себя гражданских ограничений, точно так же, как и вольные граждане, не лишаются своих прав.
Изменения в правовом положении спецпереселенцев, вступивших в брак с вольными гражданами, делаются каждый раз путем индивидуального подхода к каждому отдельному случаю (в зависимости от поведения спецпереселенца или спецпереселенки, их отношения к труду, выполнения норм и т.п.).
Примечание: эту льготу необходимо применять в особенности к той части молодежи, которая порвала связь с контрреволюционной частью кулачества.
4. Снятие ограничений со спецпереселенцев, вступающих в брак с вольным населением, производится по их заявлениям исключительно ЦИКами союзных и автономных республик, краевыми и областными исполкомами.
Примечание: в таких случаях каждый раз требуется отзыв Отдела по спецпереселенцам ПП ОПТУ.
5. Вольный гражданин или гражданка, вступившие в брак с Пересе ленцем и[ли] переселенкой, могут быть допущены для проживания спецпоселках, что ни в коей мере не ограничивает их в граждански правах».
Через несколько лет после выхода в свет данного циркуляра в недра карательного ведомства вполне естественно началось обсуждение вопроса о том, как вести акты гражданского состояния детей, рождавшихся от подобных «смешанных» браков. 29 октября 1935 г. начальник ГУЛАГа М.Д. Берман в рапорте на имя Ягоды сообщал: «С мест поступают запросы, на чье имя записывать в актах гражданского состояни; рожденных детей, когда один из родителей является трудпоселенцем. Полагал бы в таких случаях детей записывать на имя того из родителей который не является трудпоселенцем и не лишен избирательных прав. Прошу Ваших указаний» (См.: Красильников С.А. Крестьянские депортации и система управления спецпоселениями в Западной Сибири в 1930-е гг. // Сб.: Проблемы истории местного управления Сибири XVII—XX веков. – Новосибирск, 1996. – С. 176.).
Следует отметить, что процитированное выше постановление ЦИК СССР от 25 января 1935 г. самым прямым и жестким образом сказалось на существовавшей до того практике воссоединения семей в условиях спецпоселения. В начале 1930-х гг. ГУЛАГом было издано несколько директив, допускавших досрочное освобождение из лагерей глав семей «раскулаченных» с последующей отправкой в спецпоселки где находились их семьи. Однако через несколько лет стали возникать нестандартные ситуации, потребовавшие новых директивных решений 22 марта 1935 г. помощник начальника ГУЛАГа Н. Н. Алексеев напра вил на имя Ягоды рапорт, в котором сообщал: «Приказом бывшего ОГПУ № 1134-1934 г. предусмотрено, что заключенные, имеющие семьи в спецпоселках, при досрочном освобождении из лагерей за ударную работу в таковых, в случае распространения на них действия циркуляра б[ывшего] ОГПУ № 124-1933 г. не подлежат направлению в спецпоселки, а семьи их подлежат освобождению из спецпоселков.
В связи с постановлением ЦИК Союза ССР от 25 января с.г. о запрещении трудпоселенцам, восстановленным в гражданских правах, выезжать из мест поселения, считаю необходимым отменить пункт 4-р приказа бывшего ОГПУ № 1134-1934 г. и всех заключенных, освобождаемых из лагерей, имеющих семьи в трудпоселках, направлять последние на соединение с семьями, независимо от того, являются ли они ударниками или нет. Прошу Ваших указаний». На рапорте Алексеева имеется резолюция Ягоды: «Правильно! Это надо сделать <...>».
Руководство ГУЛАГа достаточно оперативно реагировало и на другие ситуации, связанные с тем, что в результате межведомственных неувязок у части спецпереселенцев появлялась возможность покинуть пределы ГУЛАГа.
В частности, по его настоянию 5 июня 1935 г. Верховным судом СССР на места было направлено письмо следующего содержания: «По сообщению ГУЛАГа НКВД СССР в судебной практике имеют место случаи, когда трудпоселенцы, осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные ими в трудпоселках, по отбытии срока наказания освобождаются и живут на свободе, а семьи их остаются в трудпоселках.
Такое явление происходит от того, что в приговорах судебных органов не указано о том, что осужденные по отбытии определенного им срока лишения свободы должны быть направлены обратно в трудпоселки.
Ввиду этого дайте указания всем судебным органам, чтобы в случаях осуждения к лишению свободы трудпоселенцев в приговорах указывалось, что по отбытии определенной им меры наказания они подлежат направлению обратно в трудпоселок».
Предметом особого внимания в обеспечении режимной регламентации статуса спецпереселенцев карательные органы считали контроль за выдачей репрессированным каких-либо документов и справок помимо комендатур ОГПУ—НКВД. 2 марта 1935 г. начальник Отдела трудпоселений (ОТП) УНКВД по Свердловской обл. Князев направил управляющему объединенным трестом Уралмедьруда уведомление, в котором говорилось: «По ряду районов со стороны низовых организаций отмечаются массовые выдачи трудпоселенц[ам] всевозможных документов, справок и отзывов личного и производственного характера (справки об отпусках, отзывы и характеристики о работе и т. д.).
Нами обнаружена масса таких справок, в которых совсем не указывается, что лицо, удостоверяемое документом, является трудпоселенцем, а обычно именуется гражданином.
Подобная безответственность с выдачей документов открывает и дает широкие возможности к бегству трудпоселенцев из поселков, беспрепятственному устройству бежавших на работ[у] в различных учреждениях, хозорганах и заводах.
Просим немедленно дать указания лично руководителям подведомственных Вам предприятий (только там, где используются трудпоселенцы) и под их личную ответственность категорически запретить выдачу непосредственно на руки трудпоселенцам каких бы то ни было документов, справок, характеристик и отзывов, в случае надобности выдавать их только через районные и поселковые комендатуры НКВД».
3.3. Спецпереселенцы и принятие советской Конституции 1936 года
Результатом принятия Конституции 1936 г. и связанной с этим кампании по массовому восстановлению части взрослого населения трудпоселков в гражданских правах стала новая коллизия - участие в выборах в Советы всех уровней предполагало наличие у голосующих документов, удостоверяющих их личность. Это потребовало от карательных органов адекватной реакции.
14 ноября 1937 г., накануне выборов в Верховный Совет СССР, НКВД разослал своим территориальным органам следующее указание: «на месте договориться с соответствующими окружными избирательными комиссиями о даче им в секретном порядке указаний председателям участковых избирательных комиссий, чтобы справки, выданные трудпоселенцам, отбирались бы при выдаче им избирательных бюллетеней» (Цитата по: Советские Конституции: Справочник. – М., 1963. – С. 268.).
Принятие Конституции 1936 г. и наличие в ней ст. 135, гласившей: «Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов, за исключением лиц, признанных в установленном порядке умалишенными» , впервые за все время существования спец(труд)поселений породили внутри руководства карательных органов размышления о перспективах этого сегмента пенитенциарной системы.
Некоторые сигналы «снизу» о необходимости реформирования трудпоселений прозвучали еще в середине 1930-х гг. Однако в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 января 1936 г., в котором ставились задачи более интенсивного освоения северных районов Западной Сибири, «правовые послабления», предложенные Северной комиссией, были прописаны в усеченном виде (восстановленным в правах разрешалось перемещаться только внутри Нарымского округа). Но в феврале 1937 г. в ЦК и Совнарком СССР было направлено совместное обращение НКВД (Н. И. Ежов) и Прокуратуры СССР (А. Я. Вышинский), в котором в связи с утверждением Конституции, ставился ряд вопросов, «связанных с правовым положением трудпоселенцев», и вносились предложения, одно из которых перекликалось с инициативой Северной комиссии Запсибкрайкома: «Оставить в силе постановление ЦИК СССР от 25 января 1935 г. <...> запрещающее восстановленным в правах трудпоселенцам выезжать из мест поселения, дополнив его указанием, что в 1939 г. будет дано право выезда в пределах края — области и в течение 1940 г. в пределах всего Союза».
Руководство страны не приняло во внимание предложение глав карательного и надзорного органов, что заставило Вышинского годом позже, 23 марта 1938 г., вновь напомнить о существующей правовой нестыковке Конституции и действовавших на тот момент директив о положении трудпоселенцев. «Впредь до общего пересмотра этого вопроса» Вышинский полагал:
«1) Прекратить удержания с заработка спецпереселенцев;
2) установить сроки и условия, при которых отдельные категории спецпереселенцев и члены их семей могли бы быть освобождаемы от обязательного проживания в трудпоселках;
3) установить обстоятельства, при которых допускались бы временные отлучки спецпереселенцев из мест поселения (для лечения и пр.)».
К началу 1939 г. «уточнений правового положения» трудпоселенцев накопилось так много, что связанные с ними вопросы стали привлекать к себе внимание многих организаций — от хозяйственных органов, использовавших труд «раскулаченных», до законодательных инстанций, куда шел широкий поток заявлений и жалоб от трудпоселенцев.
Руководство НКВД все чаще оказывалось в ситуации, когда т. н. подзаконные акты — циркуляры и указания, направленные в развитие и уточнение правительственных постановлений, — становились объектом рассмотрения правовых органов, в частности, союзной прокуратуры, на предмет их соответствия актам правительства.
Смысл изменений заключался в том, чтобы формально вывести трудпоселки за рамки карательной системы, но сохранить сложившееся положение вещей. Для этого важно было «уточнить правовое положение» трудпоселенцев таким образом, чтобы не рухнула созданная с большими усилиями сеть трудовых поселений.
В проекте постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), представленном за подписью Берии, трудпоселенцев предлагалось разделить на три категории: а) имевшие право на выезд из трудпоселков (дети трудпоселенцев и лица, вступившие в брак с нетрудпоселенцами); б) не имевшие права выезда (взрослые трудпоселенцы); в) осужденные на различные сроки и направленные в 1933 г. в трудпоселки для отбытия наказания лица, которые подлежали освобождению из трудпоселков.
Данный проект так и не был утвержден, несмотря на многочисленные согласования в 1939—1940 гг. Вначале все шло в обычном порядке: проект НКВД отправили на согласование в Прокуратуру СССР, Наркомюст, Наркомзем, после чего с ним ознакомились заместители Молотова Н. А. Булганин, Н. А. Вознесенский, Вышинский. Последнему было дано поручение внести в текст необходимые замечания и изменения и отправить в НКВД для окончательной доработки. Прошедший серьезную правовую переработку в аппарате СНК СССР, проект начал терять свою привлекательность в глазах руководства НКВД.
Специалисты из сектора судебно-административных учреждений Управления делами СНК сняли из преамбулы абзац, обрекавший взрослых трудпоселенцев-«кулаков» на бессрочное проживание в местах поселений. Взамен появился весьма либеральный пункт, дающий трудпоселенцам право на выезд по отбытии пятилетнего срока в трудпоселках. Далее руководство НКВД фактически «замотало» проект. Весь 1940 и начало 1941 г. шла вялая переписка между Управлением делами СНК СССР и НКВД.
Мы рассмотрели один из сегментов сталинского общества, показав высокую степень его иерархичности. Даже внутри такой, казалось бы, однородной группы, как спецпереселенцы - «кулаки» и их дети, устанавливалось внутреннее деление на несколько категорий, различавшихся объемом прав, привилегий и обязанностей, что расширяло возможности карательных органов для манипулирования поведением спецпереселенцев.
Массовые этнические депортации в конце 1930-х начале 1940-х гг. безусловно отразились на статусе «раскулаченых»: значительная их часть оказалась в промежуточном положении между «правовым» населением и новыми бесправными маргиналами - этническими спецпереселенцами.
И лишь в войну, которая потребовала призыва в армию и трудовых мобилизаций взрослого населения трудпоселков, режим был вынужден снять с массы «раскулаченных» ряд наиболее тяжелых правовых ограничений.
Автор: Кузнецов П.
Понравилась статья? Отправьте автору вознаграждение:
